— Ха! Беспощадное! Сказал! Этот парень, погоди, подрастет еще немного и будет вспарывать женщинам животы и детям разбивать головы о стены, и глазом не моргнет. И ты это чувствуешь. Да что я говорю! Ты это понимаешь. И ты боишься его. Ты боишься придушить гадину, пока она мала и еще не пришла ей пора жалить. Ты готов заискивать перед ним и ему подобными. Как ты называешь его «парнишкой», небрежно этак, прикрывая этой небрежностью свой нутряной, утробный страх!
Вольф почти кричал в полный голос. Элиасу было неприятно, как бывает неприятно здоровому говорить с больным, человеку в здравом рассудке — с безумцем. Но вместе с тем, Элиас Франк невольно, как завороженный, соглашался с Вольфом, и эта бессознательная неизбывная необходимость соглашаться наводила на судью Элиаса безысходное уныние. А Вольф уже не мог остановиться.
— Ты вывел этого мерзавца на чистую воду и это позволило тебе хотя бы немного избавиться от страха, от такого удушливого, унизительного страха. Но тотчас же ты принялся заискивать, к штрафу меня присудил. Трус! «Я прошу вас не наказывать мальчика за его детскую шалость», — гнусаво передразнил Вольф. — Жид! Трусливый жид!
Элиас намеревался было обидеться и выбранить своего возбужденного собеседника, но тут ему кое-что пришло на мысль, и он спросил почти примирительно:
— А ты-то не боишься? Ну допустим, я и вправду боюсь, или даже лучше сказать опасаюсь…
— Боишься, трусишь, — угрюмо перебил Вольф.
— Ну хорошо, ну, боюсь, пусть так. А ты, ты сам?
— Я?! Не сравнивай. Да, я боюсь, но боюсь честно и открыто, как боится ядовитой свирепой гадины слабый человек, лишенный возможности защищаться. И от этой честности и открытости мой страх почти уже не мучителен мне, я не загоняю этот страх трусливо вовнутрь своей души, как нечто нечистое. А ты ощущаешь свой страх нечистым, ты пытаешься гадину оправдать, пытаешься обосновать, даже понять, почему она жалит людей…
«Нет, это наваждение, наваждение! — лихорадочно думал Элиас Франк. — Надо это стряхнуть, надо очнуться…»
— Опомнись, Вольф! Что я, по-твоему, должен был приговорить его к смертной казни? Что бы там ни было, но ведь это еще ребенок, мальчик!
— Надо раздавить гадину, пока она еще не жалит! — упрямо замкнулся в своем гневе, наконец-то прорвавшемся, Вольф.
— Да ты и сам никогда бы на это не решился!
— Да, и я бы не решился. Потому что и я трус, трусливый жид!
— А тебе не кажется, что мы оба сейчас как будто сошли с ума? Что это? «Гадина, гадина! Раздавить гадину!» Что, в сущности, произошло? Мальчика обманул ты. Ну да, он понял, что фляжка серебряная, но обменял ее на самострел, поддавшись ребяческому желанию. А ты просто воспользовался тем, что он не сумел со своим желанием совладать. Только и всего! И мое решение по этому делу, что бы ты ни говорил, совершенно правильное решение. Но я вижу, что у тебя сейчас — полоса неудач, и я дам тебе денег. И правильно то, что я попросил Гюнтера не наказывать мальчика. Незачем излишне озлоблять сироту! И не утверждай, будто я заискиваю перед ядовитой гадиной!
Элиас смутился своей внезапной горячности и замолчал.
— А ты, значит, готов утверждать, что всего того, о чем я говорил, не существует вовсе? — глухим голосом спросил Вольф.
— Нет, я не стану лгать. Существует и то, о чем ты говорил. Но если я буду исходить из того, о чем ты говорил, я не должен быть судьей.
— Ах, ну, разумеется, если уж еврей заделался судьей, он должен, он просто обязан быть самым справедливым, самым беспристрастным судьей. Ведь ему надо ежеминутно доказывать христианам, что он ничем не хуже, а в чем-то даже и лучше их!
— Вольф! Это уже скучно становится!
— Да вовсе тебе не скучно, а не можешь ты мне возразить, не солгав при этом…
— Ненависть — это не путь. Я вижу, ты готов ненавидеть меня, потому что я тебе пока позволяю… Ты и моего Андреаса можешь возненавидеть, потому что…
— Этого парня, твоего помощника, — перебил Вольф. — К чему ненавидеть его? Он простая душа, ему внушено с детства, и он знает, что к иноверцам следует всегда относиться с подозрением, хотя и среди них бывают честные люди. И я воспитан в таких же правилах, и потому мы понимаем друг друга. Это ты и тебе подобные все пытаются внушать людям, будто их чувства и мысли могут быть сходными, несмотря на разницу вероисповедания…
— Моего помощника не зовут Андреасом. — Элиас Франк улыбнулся.
— А кто этот Андреас?
Вольф действительно не догадывался. Собственные рассуждения, внезапно открывшаяся возможность многое высказать открыто, настолько возбудили его, что он теперь не смог бы догадаться о самом простом…
— Андреас — это мой сын. Через пять месяцев ему два года минет.
Вольф рассмеялся, в глубине души порадовавшись возможности прервать неприятный разговор. Тем более, он уже выговорился и ощущал усталость. Тут на него и кашель напал, и сквозь кашель он проговорил:
— Не сумасшедший я, чтобы ненавидеть двухлетних детей. Это все твои Гюнтеры да Дитеры ненавидят наших младенцев! — Вольф подосадовал на себя — ведь хотел перестать…
— Ну да! А ты ненавидишь только тех, кому уже минуло десять! — На этот раз рассмеялся Элиас.
— Брось! — Вольф махнул рукой. — Брось это неуклюжее притворство. Не притворяйся, будто не понял ничего из того, о чем мы только что говорили.
— Ну понял я, все понял. И больше всего на свете хочу перестать наконец говорить о том, о чем мы все это время говорили. Вон мой дом. Видишь? Красная черепичная крыша и башенка. И ты даже не спросил, на ком я женат.
— Думаю, ты женат на женщине. — Вольф наконец прокашлялся.
Выслушав этот серьезный ответ, Элиас с готовностью расхохотался. Вольф последовал его примеру. И потопив в этом взаимном смехе досаду, заговорили они о своих семейных делах и обстоятельствах.
Оказалось, оба они женаты по третьему разу и на молодых женщинах. Жена Вольфа была моложе своего мужа на десять лет, жена Элиаса — на шестнадцать. У обоих подрастали дети. У Элиаса — маленький сын, у Вольфа — четырехлетняя дочь. Впрочем, Вольф мало успел рассказать о своем браке, потому что на этот раз почти все время говорил один Элиас.
Третьей его женой стала молодая прядильщица по имени Елена. Родители ее держали крохотную лавчонку, где отец продавал сладости, которые изготовляла мать. Сначала умер отец, после — мать. Старшая сестра девушки еще при жизни родителей отдана была замуж в крестьянскую семью и жила далеко за городом. Когда родители умерли, Мария взяла юную Елену к себе. Девушку не попрекали куском хлеба, но все же зависимое существование было ей тяжело. В девятнадцать лет она вернулась в город и поступила в мастерскую Гудруны, где трудилось более тридцати мастериц — прядильщиц и ткачих. Как-то раз судья Франк надумал заказать себе новый плащ для холодной погоды. Ему посоветовали купить хорошую шерсть и отнести в мастерскую Гудруны. Слуга его отнес шерсть, но так вышло, что за пряжей Элиас зашел сам. Плащ еще не был готов, а он уже обвенчался с Еленой. О ней ничего дурного не говорили, она была честная девушка, и очень сильно он в нее влюбился. Дочь, их первенец, умерла, не прожив и года, но мальчик, родившийся после смерти сестры, благополучно рос и родители радовались ему.
Тут Вольф и Элиас Франк подошли к дому Элиаса. В одной из комнат на втором этаже окно было распахнуто. Молодая женщина — крепкие щеки, как яблоки, — катала выстиранное белье и громко распевала песенку о девице, вынужденной весь день напролет нянчить ребенка своего брата, а злая сноха даже на танцы не отпускает ее. По одежде Вольф понял, что это служанка, однако ему захотелось подразнить Франка и спросить, не его ли это жена. И все же Вольф сдержался. Нет, это будет неудачная шутка, и они уже довольно наговорили друг другу неприятного.
Элиас постучал дверным бронзовым молоточком, слуга отворил, покосившись на еврея, согнувшегося под тяжестью мешка сомнительной чистоты. Элиас велел Вольфу оставить мешок в просторной прихожей. Служанка проворно сбежала вниз.
— Дома ли госпожа? — справился хозяин.
— Она в церковь ушла с ребенком, но скоро обещала вернуться.
— Что ж, мы подождем. Предупреди ее, что у нас гость.
Вольф выглядел смущенным. Настороженное любопытство слуг заставляло его внутренне напрягаться, нервничать.
Элиас провел гостя в большую комнату на первом этаже своего дома. Большой деревянный стол с резными ножками был застлан красивой, затканной нарядным узором скатертью, но к ужину еще не было накрыто. Мебель — буфеты и ларь — была отличная, красного дерева.
Элиас, конечно, заметил, что его гостю не по себе. Впервые за целый день Элиас почувствовал себя усталым. Это чувство, в свою очередь, вызвало чувство тревожного недовольства. С тех пор, как Элиас Франк женился на совсем молодой женщине, его стали пугать малейшие признаки старости. Он даже сделался мнительным; даже легкая усталость после целого дня в суде казалась ему грозным предзнаменованием беспощадно надвигающегося старческого бессилия. Он всегда старался прогнать неприятные ощущения, не сосредоточиваться на них. Возможно, в другое время разговор с гостем отвлек бы его, но сейчас он почти невольно досадовал на Вольфа. После всего того неприятного и тяжелого, о чем они говорили, как-то трудно было начать легкую беседу о чем-нибудь обыденном. Вольф тоже молчал. Элиас подумал, что ведь они уже было начали говорить о женах и детях. В конце концов можно продолжить… Вольф, в сущности, еще не рассказал ему о своей женитьбе… Но почему-то Элиас не мог легко начать разговор, какое-то странное смущение охватило его, он не знал, с чего начать, возможные фразы казались фальшивыми. Но молчание Вольфа было спокойным. И Элиасу стало легче, он уже не ощущал неловкости, он даже прикрыл глаза.
Вскоре раздались легкие женские шаги и звонкий детский голосок. Затем заговорили женские голоса. Громко говорила крепкая девица-служанка, второй женский голос мягко и почти неслышно отвечал. Дверь отворилась. Элиас и его гость уже почувствовали себя бодрее. Элиас улыбался. Он все еще был влюблен в свою молодую жену и тосковал, когда принужден был разлучаться с ней. Прежних своих жен он любил иначе, но ведь тогда он был молод, а теперь научился по-настоящему ценить женское очарование, свежесть чувств и телесную прелесть юной женщины. Вольфу было любопытно взглянуть на жену Элиаса. Вольф знал, что первая и вторая жены Элиаса Франка отличались яркой, броской красотой, — высокие, темноволосые, с огнем в глазах, с чувственными яркими лицами. Но красота молодой женщины, которая вошла в комнату, была совсем иной. Стройная, тонкая, с маленькими изящными руками, совсем невысокая, она все же не казалась болезненно хрупкой, но выглядела только легкой и изящной. Когда она легко ступала по навощенному полу, подол зеленого бархатного платья чуть колебался, на миг показывались острые носки нарядных кожаных туфелек и видно было, что ножки у нее стройные, а ступни — маленькие. Одетая нарядно, по самой последней городской моде, она совсем не казалась щеголихой. Из-под широко ниспадавших рукавов верхнего платья виднелись узкие голубые рукава нижнего; мода требовала, чтобы нарядная женщина одновременно выглядела стройной и тонкой в кости, и в то же время как бы ждущей ребенка, с чуть выступающим животом. Плавно струящиеся вниз, легкие линии зеленого платья Елены и делали ее такой, женственно манящей, матерински нежной и девически тонкой. Держалась она очень деликатно и мягко, говорила нараспев и очень тихо, но ощущались в ней определенная уверенность в себе и чувство достоинства. Ярко-белая, ослепительно чистая, легкая головная повязка мягкими складками спускалась на плечи, легкие золотистые пряди выбивались ненавязчивыми локонами. Приглядевшись к лицу Елены, можно было оценить его неброскую красоту и своеобразие — темные, но не черные ресницы и брови, серые глаза с этим легким нежно-зеленоватым отливом колеблющейся на солнечном свете весенней листвы смотрят с этой мягкой нежной веселостью, брови чуть скошены навстречу друг дружке и приподняты над глазами чуть выше, чем это обычно бывает, что и придает юному женскому лицу особенную прелесть. На руках она несла маленького мальчика в светлой рубашечке и длинном синем камзольчике из тисненого бархата. Ребенок своими очень темными бровками и почти черными, с длинными ресничками глазами, очаровательно серьезными на округлом детском личике, походил на отца, но кончик носика у него был не отцовский заостренный, а закругленный и чуть расширенный, как у матери, это стало заметно, когда мальчик улыбнулся, показывая маленькие белые зубки. Волосы у него были мягкие, кудрявые и золотистые, но, конечно, в будущем должны были сделаться жесткими и почти черными, как у отца. Мальчик был худенький, но уже чувствовалось, что он вырастет сильным и стройным; пальчики, уже сейчас длинные, обещали стать сильными пальцами музыканта и воина. Ребенок тотчас заметил гостя, нисколько не испугался, улыбнулся всем личиком — и сияющими глазками и розовыми щечками; потянулся к незнакомцу и что-то лепеча на своем детском языке, протянул ему обеими ручками порывисто-доверчиво игрушку — деревянного, пестро раскрашенного петуха. Гость тоже улыбнулся и принял игрушку, повертел и хотел было поставить на стол, но мальчик громко и звонко заговорил, замахал ручками.

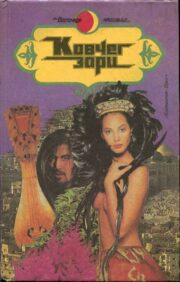
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.