Но Сафия стала думать о его матери. Она видела его мать, несколько раз, когда он еще был ребенком и мать приходила с ним в мастерскую сапожника…
— Я видела вашу мать, я немного помню ее, — сказала Сафия. — Она маленькая…
— Не сказал бы…
Это прозвучало так по-детски. И Сафия поняла, что он, как ребенок, воспринимает мать каким-то большим существом; у него бессознательное ощущение, будто мать больше, чем он… Сафия со своим женским чутьем уже не воспринимала так свою мать, а помнила ее отдельно от себя, как отдельное существо; и помнила маленькой и хрупкой. Мать умерла молодой, и Сафия давно уже сделалась старше ее…
С увлечением юношеским Андреас восхищался умом Сафии.
— Какие у вас прекрасные мысли, как прекрасно вы говорите!..
— Нет, это ваши слова и мысли прекрасны, — искренне отвечала она.
И он повторял, что это не его мысли, что мысли свободно летают; и приходят, к кому сами захотят. И повторял: «Я слепой… я святой…»
Она придумала к этим словам еще другие слова и стала тихонько напевать за работой:
— «Я слепой… я святой…» — так говоришь…
Одною только высотой,
одною только глубиной простой говоришь…
«Я слепой… я святой…» — так говоришь…
— Ваши слова глубже моих, — сказал он.
— Мои слова не стоят ничего в сравнении с вашими, — горячо возразила она.
Она видела, знала, что он болен безумием; но болезнь его стала для нее привычной, как боль может стать привычной, ноет привычно. Она не знала, как его лечить. Ночами она думала, что же делать, как лечить его; как сделать, чтобы он снова мог жить своим ремеслом-искусством. А днем, когда говорила с ним, она часто и не думала о его болезни. Особенно, когда он что-нибудь рассказывал, пусть даже какой-нибудь совсем простой случай из своего детства. Он так рассказывал — связно, легко, плавно, красиво, — как будто читал по книге.
Иногда он делался как-то затаенно, внутренне тревожен. Она чувствовала. Это была его болезнь. И Сафии тоже делалось тревожно и как-то страшно. Однажды он был в таком состоянии и рассказал ей про то, как с ним случился очень тяжелый приступ кашля. Она работала, он сидел на табурете, подавшись к ней, и рассказывал, как этот приступ кашля мучил его и не отпускал, это было ночью, и Андреас боролся с этим болезненным приступом и не мог одолеть.
— Тогда я собрался с силами и полюбил эту болезнь, из последних сил полюбил ее. И она ослабла от моей любви. И я с такой радостью чресл задушил ее…
Сафии было мучительно и жалостно любое его страдание. Она подумала, что ей даже хочется спросить его, дает ли она ему эту радость его чресл. Но такое было стыдно спрашивать. А для нее все в нем было радостно; даже когда больно, тревожно, мучительно, обидно; все равно было радостно… Она сильно сплела пальцы рук и посмотрела прямо на него. И он сразу все понял, одолел себя, перестал быть болезненно-тревожным; улыбнулся тепло, как старший, добрый и заботливый; совсем наклонился к ней и поцеловал ее в висок.
Наконец она решила поговорить с отцом о болезни Андреаса. Отец все равно все знал и понимал, и не сердился на нее, не осуждал. Но вышел какой-то странный разговор. Она спросила отца, как он полагает, в чем причина болезни Андреаса.
— На человека напала сущность, — отвечал Гирш Раббани. — На одного человека. Чаще бывает так, что несколько сущностей, соединившись в некую простую общность, нападают на многих людей сразу. Люди делаются одержимы сущностями множественно. А здесь такое странное — сущность напала на одного человека. И не победила его. А если ты спрашиваешь, как надо лечить его, то я пока не знаю, как лечить его здесь и сейчас. Уберечь его от его жизни ты не сможешь. Если бы у меня были нужные снадобья, то и не надо было бы оберегать его от жизни; я поил бы его этими снадобьями и он легко переносил бы жизнь. Но у меня этих снадобий нет; и для того, чтобы их иметь, надо жить не здесь и не сейчас.
— Значит буду помогать ему, как будет получаться, — сказала Сафия. — Я люблю его.
— Ты веришь, ты уверена, что твоя любовь, она вне этих общих сущностей…
— Мне ведь немало лет, — сказала Сафия мягко, — я уже не могу верить в единственность именно моей любви. Но все же люблю его.
Отец помолчал.
Она купила шерсть и шелк, и ночами, при свече, выткала новый ковер. Быстро закончила его и взяла работу на заказ. Андреас сидел и смотрел, как она работает, поджав под себя ноги; вытягивает из клубков нити, вяжет узелки, и каждый ряд узелков припускает еще тремя рядами утка и прибивает их деревянным гребнем, чтобы ткань вышла плотная и прочная. Иногда она разгибалась, распрямлялась, опирала ладони о колени; так сидела, и они разговаривали.
— Я устала, хочу отдохнуть немного, — сказала Сафия. — Мне хочется показать вам один ковер, я его сделала для отца. Вы посмотрите?
Андреас очень охотно согласился и сказал искренне, что ему всегда интересна ее работа.
— Пойдемте, — пригласила Сафия, и встала.
Андреас вошел вслед за ней в маленькую комнату ее отца. Здесь были деревянные полки, на которых громоздились переплетенные тетради и сложенные листы бумаги — писания Раббани, его хроники. Был еще маленький шкаф, в нем, должно быть, держал Раббани письменные принадлежности. Не было ни стульев, ни кровати, постель была свернута в углу. Столик был совсем низкий; Раббани должен был сидеть перед ним, как Сафия у станка — с поджатыми ногами…
— Ваш отец не рассердится на нас за то, что мы вошли в его комнату? — вдруг тихо спросил Андреас.
— Нет, — тихо и мягко отвечала Сафия, — мы ведь ничего не станем трогать, только посмотрим ковер…
Слышно было, как сапожник поет в мастерской…
Ковер бы положен возле столика. Андреас стал смотреть.
— Ковер всегда постелен здесь, на этом месте, или вы его так положили, чтобы мне сейчас лучше было видно? — спросил Андреас.
— Нет, он всегда здесь, — коротко ответила Сафия.
Андреас немного наклонился.
Ковер был разных оттенков зеленого, и был выткан контуром бегущий олень; контур этот был коричневый, зеленое переплеталось словно лес; но все это было совсем не такое, как в жизни, а совсем узорное. Это не было изображение оленя в лесу, и даже не было изображение некоей сущности оленя в лесу. Андреас понял, что это был такой узорный портрет души Раббани, как Сафия его чувствовала и понимала. «Гирш» — имя Раббани — и означало «олень». Сафия смотрела на Андреаса и видела, что он проникается смыслом ее работы. Видеть такое в нем — уже стало для нее привычной радостью. Он распрямился, посмотрел на нее, и им не надо было ничего говорить об этом ковре…
— Теперь пойдемте во двор, — сказала Сафия. — Там новая моя работа. Я ее уже вымыла, вычистила, и растянула для сушки. Сейчас так жарко, солнечно…
В маленьком внутреннем дворе Раббани Андреас увидел ее новый ковер. Здесь все было, на этом совсем небольшом пространстве, — круглились голубые и синие волны; сложно, странно и плавно переплетались ветви; расцветали цветы и повисали плоды; поднимались стволы, взлетали голуби и звезды; маленькое красное было драгоценным камнем, цветком розы и живым сердцем нежным… И все стремилось, устремлялось к самой середине, к сердцевине… Там замер на голубой синей выгнутой легко волне серебряный кораблик легким контуром. Как будто и плыл и не плыл. И над корабликом — в голубом воздушном маленьком просвете — маленький мальчик — фигурка в короткой красной рубашечке, в коричневых чулочках — головка без черт лица, черноволосая, с челкой. Он поднял вверх распрямленные по-детски ручки, раскрытыми ладошками — вверх. И пестро выкрашенный, большой игрушечный петух бережно замер над этими детскими раскрытыми ладошками — предвестник светлой розовой зари и детски веселого солнца… Андреас узнал себя маленького, такого, каким он когда-то в первый раз пришел в дом Раббани. Это был портрет души.
Долго Андреас молчал. Затем спросил настороженно и беззащитно:
— Откуда вы знаете о моем кораблике? Отец мне его подарил; он серебряный, для пряностей, но я просто играл с ним, как с игрушкой…
— Я не знала, клянусь вам! — она заволновалась.
— Я верю, — сказал он тихо. — Не клянитесь.
И снова стал молча глядеть на ковер.
Она почувствовала, что какие-то сомнения, колебания смущают Андреаса; и стала, тоже смущенная, взволнованно говорить, пояснять…
— Это все означает, что жизнь устроена с видимой сложностью; а на самом деле — просто, но красиво и трудно. Вы одиноки, но вы в самой сердцевине бытия; все сходится, стремится к вам… — Андреас ничего не говорил. — Я хотела бы показать эту работу людям, — сказала она, — мне кажется, они поймут…
— Вы свободны и можете сделать, как вам захочется, — сказал он очень мягко.
И вдруг она поняла, что он не хочет, чтобы она показывала людям этот ковер…
— Если свободна, значит, нет, — сказала она, радуясь тому, что может исполнить его желание. — Я больше не хочу, я никому не покажу этот ковер…
— Благодарю вас, — произнес он этим отчетливо-напевным и мягким мужским голосом…
Ах, как он был прав; не надо было, чтобы люди видели его чистую светлую душу такой совсем открытой…
В дни иудейского праздника Пурим Андреас приходил в дом Раббани в оба праздничных дня, как настоящий гость. Он надел новую рубашку, которую мать недавно сшила ему, и безрукавную куртку, которую обычно редко надевал.
Пурим — праздник чудесного спасения. Положено читать мегилат Эстир — пергаментный свиток с изложением легенды о чудесном спасении иудеев от гнева Амана, советника древнего персидского царя Ахашвероша. По указанию своего родственника, мудреца Мордехая, царская наложница Эстир решилась войти к Ахашверошу и рассказать ему о кознях Амана против иудеев.
Но Раббани воспринимал праздник просто как возможность вкусно поесть и быть веселым как бы с полным правом… И Андреас таким восприятием проникся и тоже развеселился.
Сафия обычно не любила домашних дел. Но на этот раз она готовила еду, мыла и прибирала в доме с удовольствием. Как молодой девушке, ей хотелось принять любимого дорогого гостя в красиво прибранных чистых комнатах и вкусно угостить его. Она думала, что в ее возрасте все это, пожалуй, смешно. Смеялась тихонько и все равно тихонько пела: «Расчесывала косу девушка у окна», и радовалась своим внезапно проворным движениям. Она приготовила все вкусное, но не как принято было здесь, а как готовили к праздникам в Иберии, на родине ее бабки. Подала на стол рыбу, яйца с луком, сладкие печенья — «дезаюнос»; ореховые ядрышки с медом, сладкие булочки с ореховой начинкой.
Она надела красивое голубое платье, распустила волосы и заколола у висков красивыми позолоченными заколками.
Андреас, приодетый, шел к дому сапожника. Мальчишки колотили в деревянные колотушки и трещали деревянными трещотками. Мужчины прикрывали лица бородатыми и длинноволосыми масками из пестрых тканей. Женщины были в желтом и красном, и украшения золотые и серебряные на них ярко блестели. Все было — вспышка разноцветного шума в сером воздухе города…
После еды Андреас и Сафия сели играть в шахматы. За едой мужчины пили вино. В Пурим надо было пить и веселиться.
— Теперь я выиграю, — сказала Сафия, легко смеясь, — я ведь не пила.
Они уже играли прежде, но всегда выигрывал Андреас. И на этот раз он ее легко обыграл, потому что она сильно любила его и не могла хорошо обдумывать ходы, играя с ним; и еще потому что он лучше играл, чем она.
Раббани сел за столом так, чтобы видеть, как они играют. Он сидел, ощерив большие редкие темные зубы, и смотрел то на Андреаса, то на дочь, а больше — на шахматную доску, этим своим мальчишески острым взглядом. Сафия засмеялась и сказала, что больше не хочет играть. Андреас тоже смеялся. Как-то было легко и весело. Но тут Раббани предложил Андреасу сыграть с ним. Андреас согласился. В чертах Раббани сильно обозначились резкость и сосредоточенность. Он знал, что Андреас играет очень хорошо, прежде ему не случалось играть с Андреасом. Они сели и началась у них серьезная игра. Сафии хотелось бы поговорить с Андреасом о чем-нибудь легком и веселом, и теперь она даже намного подосадовала на отца. Но постепенно увлеклась и внимательно следила за их игрой. Андреас подолгу обдумывал ходы; Гирш ставил фигуры деревянные легко, быстро переставлял, словно заранее все обдумал и решил. Андреас не смог выиграть, получилась ничья. Андреас сразу предложил сыграть еще. На этот раз он проиграл. Видно было, что это его огорчило, но он пытался скрыть свое огорчение. Раббани выглядел спокойным и замкнутым. Они втроем повели разговор о пустяках. Но Андреасу было тяжело; он пожаловался на головную боль и ушел.

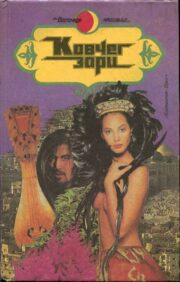
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.