Сафия сама не понимала, почему она не сердится на отца, ведь это из-за него так огорчился Андреас. Но почему-то на отца она не сердилась. Всю ночь она не спала от тоски и тревоги. Она боялась, не станет ли Андреасу хуже от этой головной боли. Вдруг ему уже сейчас плохо? И некому помочь, только старая мать с ним. Она готова была утром идти к нему; она знала, где он живет. Но она боялась, что его мать дурно истолкует ее приход; а она уже любила его мать; так трепетно думала о ней, ведь он от нее родился.
Но на второй день праздника Андреас пришел уже утром. Сафия только-только успела одеться. Поставила еду на стол. Андреас ел быстро и сразу сказал Гиршу Раббани, что снова хочет с ним играть. Сапожник кивнул. Они сели и закончили игру только к обеду. Андреас выиграл. Он откинулся на спинку простого деревянного, расшатанного за многие годы стула и пытался изо всех сил, как-то по-детски, не показать свою радость. Но у него не получалось. Вдруг обрадовались все. Сафия радостно заметила, что и отец рад. Пообедали очень весело. Потом пошли на улицу и гуляли среди празднично одетых, веселых людей. Никто не удивлялся тому, что они вышли втроем, никто ни о чем плохом не спрашивал. Так хорошо провели праздник.
Сафия привыкла надевать к приходу Андреаса свое красивое голубое платье и распускала волосы.
Теперь много молчали или пели. Прежде она если пела, то очень тихо. Но Андреас находил, что у нее хороший голос, хвалил ее голос, и она стала петь громко. Иногда она пела за работой, и пальцы совсем легко вязали узелки, и было радостно работать.
Пели разные протяжные и ритмические песни. Его голос был теплый, чистый, все слова звучали удивительно отчетливо; но когда пел, он напрягался, и даже было порою мучительно видеть его напряженное лицо. У нее голос был женственный, мягкий, но не тонкий. Пели: «В золотую дверь стучусь…», и «Видела я тебя…», и «Солнце мое!..» Пели, как люди, для которых время уже не существует; и потому они всегда дети, подростки, юные. Раббани иногда пел какие-то совсем древние песни. Даже те, кто очень хорошо знали древний иудейский книжный язык, не все понимали. Сафия сама не знала, как понимала, но почему-то понимала. А Андреас все понимал. Раббани начинал, Андреас уверенно подхватывал. И они пели вместе и поочередно, с восторгом, воодушевлением и отчаянием. Андреас тогда пел без малейшего напряжения; пел, как дышал, — совсем легко, будто это всегда была его суть и наконец мог он излить душу вольно и свободно, ясными словами и протяжной и звонкой мелодией души…
Раббани начинал:
В дорогу пора поднять верблюдов, сородичи!
Я больше теперь не ваш, примкнул я к семье другой!
Андреас подхватывал с силой звонкой, Раббани легко смолкал и Андреас пел один:
Готово уж все к отъезду: седла подвязаны,
Верблюды навьючены, и путь озарен луной.
Я жизнью твоей клянусь: найдется убежище
Тому, кто уходит в путь один в темноте ночной —
Не тесно ведь на земле тому благородному,
Кто, слушаясь разума, от злости бежит людской.
С другими я породнился: с волком стремительным,
С пятнистым гепардом и с гиеной хромой.
Не бросят они меня, злодейства простят мои
И тайны они хранят, не выдадут ни одной!
Заменят мне тех, кто платит злом за мое добро
И в близости с кем не видно радости никакой.
Еще три друга есть у меня: сердце горячее,
Да белый отточенный меч, да желтый лук с гладкой спиной,
Увешанный ремешками для украшения,
Звенящий, с длинною шеей, с тетивою тугой.
И гордой душе моей позора не вынести
От дела постыдного я взор отвращаю свой!
Под голову руку я кладу исхудалую
Как будто игрок расставил кости перед игрой.
И если ты, любимая, недовольна мной,
То сколько веселых дней я прежде провел с тобой!
И как лихорадка не отлипнет возвратная
Заботы тяжелые все вяжутся вслед за мной.
Я прочь отгоняю их — они возвращаются,
И сверху, и снизу подбираются чередой.
Но тело свое укрыл я одеждой терпения,
А вместо сандалий мне служит рассудок мой.
Я шел сквозь пустыню, а со мною попутчики
И стужа, и дрожь, и страх, и ливень, и мрак ночной.
Я вдовами делал жен, и я сиротил детей,
Но сам оставался цел, укрытый ночною мглой.
И сколько бывало дней: от зноя дрожит простор,
Бока обжигают змеи в жаркой пыли сухой,
А я подставляю прямо солнцу свое лицо,
Прикрытое кое-как тряпицей совсем плохой
И длинными волосами — ветер подул на них
И вскинул волною черной над моей головой.
И вшей не ищут в моих волосах пальцы твои.
И пусть я такой, но я свободный, и я живой.
А сколько пустынь огромных, гладких как новый щит,
Покров их разостланный не тронут ничьей ногой
Прошел я без страха целиком из конца в конец:
Взбираясь на скалы и дорогой идя прямой.
И черные козы долго бродят вокруг меня
Монахини в длинных платьях, там, на тропе крутой,
А ночью затихнут, по соседству пристроятся,
Как будто я их вожак, вернувшийся к ним домой…
Так пел часами…
А когда его песня кончалась, вступала Сафия:
Лейте слезы, мои глаза, лейте слезы о нем,
Пусть жемчужины слез текут на платье дождем.
Я вспоминаю тебя, когда спускается ночь,
И сердце ноет мое, горит — пылает огнем.
Ты голодных кормил, нищих ты оделял,
С бездомными бедняками ты делился своим жильем.
И мы с тобою вдвоем, две ветки, рядом росли,
Две на одном стволе, на высоком пышно цвели.
Поили нас корни дерева прохладной чистой водой,
И ветер листья качал, взлетая к ним от земли.
Сломила ветку одну, сломила злая судьба
Закрылись твои глаза и слезы мои потекли.
Все люди, как звезды в небе, ты же месяцем был,
Прекрасным светом своим ты людям в потемках светил.
Упал мой месяц с небес — судьба тебя унесла,
И мне теперь меж людей никто уже больше не мил…[7]
Сафия пела и пела; увлекалась и пела громко, чувствуя дрожь и переливы своего голоса, почти неподвластные ей. Это были ее чувства, и в этих песнях они были яснее, чем в жизни, и от этого было легко…
Теперь люди слышали самозабвенное пение, приостанавливались и покачивали головами. Но не осуждали, не хвалили; молчали; словно ждали, что дальше будет…
Она знала, что люди не любят ее. Она была непредусмотрительна, многое говорила опрометчиво, и потому была беззащитна. И вдруг стало казаться, что они могут полюбить ее, и она — их; ради Андреаса…
Держала его ладонь, теплую и плотную… чуть даже щекотно… к своей щеке приложила… почувствовала щеку мягкой… как это — так любить… так больно и хорошо… и он согреется весь… его ладонь, губы, глаза, брови…
К некоторым действиям, событиям и словам люди продолжали относиться очень серьезно; смеяться никто не намеревался; и напрасно Андреас говорил, что надо засмеяться. Уже стало такое, о чем скучно говорить. Хотя некоторые полагают, что если кроваво, то уже интересно и потому говорить стоит. Но я полагаю, что всякое кроваво — скучно. Впрочем, скучно — не означает, что не кроваво.
Вскоре стало слишком много людей, которых мучили, убивали и грабили; настолько много, что уже все признавали однозначность происходящего.
Однако все подготовлялось постепенно. Однажды город покинули Гогенлоэ. В сущности, ничего такого удивительного в этом не было; несколько городов подлежали юрисдикции Гогенлоэ и они могли жить в любом из этих городов. Как раз город, из которого они уехали, не подлежал их юрисдикции; не совсем ясно было, то ли он подлежит герцогской юрисдикции, то ли короля Альбрехта Габсбурга; то ли речь идет о городском самоуправлении, к последнему горожане особенно склонялись.
Вместе с Гогенлоэ ехала на своем вороном коне Алиба, жена бывшего судьи, старика Элиаса Франка. И вслед за Гогенлоэ, их вооруженными отрядами, спутниками и слугами, город покинули разного рода люди; среди них было много бродяг, неимущих, были и молодые сильные мужчины и юноши с оружием; были и женщины, одни из числа тех, что всегда следуют за войском или бандой, другие шли рядом с мужьями; а когда в окрестностях к ним ко всем начали присоединяться вооруженные чем попало крестьяне, крепостные Гогенлоэ, и крестьянские жены на повозках; стало ясно, что предстоят большие грабежи.
Но Андреас на этот раз не обдумывал происходящие события. Он очень обрадовался отъезду госпожи Алибы и в тот же день пошел к отцу. Старик остался только с одним, доброжелательным к нему слугой, остальные уехали вместе с Алибой.
— Я найму повозку и помогу тебе перебраться к нам, в наше жилище; мама не будет против, — предложил Андреас отцу.
Дряхлый больной старик задумался, затем покачал головой, отказываясь. Когда Андреас вечером рассказал об этом матери, задумалась и она; и, подумав, сказала, что нет, конечно, не была бы против, но понимает, почему отец отказался. Андреас и Сафии рассказал, что теперь может свободно навещать отца, и пообещал привести ее в гости к своему отцу, отец знает много интересного, ей будет интересно говорить с ним. Ей и вправду, пожалуй, было бы интересно, хотя ей больше хотелось увидеть мать Андреаса и поговорить с ней о его детстве, о его привычках, и самое важное — о его болезни и как помогать ему. Но о таком своем желании Сафия Андреасу не сказала; только сказала, что охотно повидается с его отцом.
Алиба увезла из дома все деньги и все, что было в доме ценного. Андреас пошел в мастерскую Бэра и попросил денег; тот дал и сказал, что отдавать не надо. Андреас бы отдал, но дальнейшие события помешали ему, потому что совершенно переменили его жизнь. А пока из этих денег Андреас заплатил слуге, чтобы тот хорошо ухаживал за его отцом, и купил отцу на рынке свежих припасов. Андреас заметил, что овощи и парное мясо подорожали. Андреас спросил одного крестьянина и тот ответил, что это потому что часть крестьян ушла следом за Гогенлоэ, и в город привезено не так много овощей, молока и мяса, как привозилось обычно. Но и над этим Андреас теперь не стал долго раздумывать. Он проводил целые дни у постели отца, развлекал его занимательными рассказами, пересказывая почерпнутое из книг и с увлечением рассуждая на разные темы. Отцу Андреаса было почти девяносто лет. Однажды Андреас спросил, хотелось ли бы ему дожить до ста лет.
— Нет, — отвечал отец, — не хочу. Тепла нет в моей жизни.
Андреас искренне пожалел отца и даже не стал думать о том, что его отец, в сущности, сам лишил себя тепла, удалив от себя жену с маленьким сыном. Андреас никогда бы ни в чем не упрекнул отца.
— Я снова прошу тебя перебраться к нам, — сказал Андреас. — Я и мама, мы дадим тебе тепло.
Отец снова покачал головой.
— Я так радовался твоим успехам, — произнес отец внезапно. — Ты ничего не говоришь мне о своих делах…
Андреас потупился и потер ладонью край одеяла, которым был укрыт отец.
Неужели отец не знает?.. Или забыл от старости, дряхлости?.. Что же сказать?.. Андреас не хотел тревожить и мучить отца рассказом о своей болезни; довольно и того, что мать мучается… И как это горько, то, что нельзя избавить ее от этих мучений…
Отец полулежал на приподнятых подушках, одеяло было теплое, в красных и белых узорных квадратиках.
Но о делах Андреаса отец уже забыл, и заговорил хриплым срывающимся голосом о матери Андреаса.
— Я так любил ее… у нее гребень был в волосах… я просил, чтобы она вынула… хотел погладить ее по волосам… у нее были такие легкие золотистые волосы… и голос такой тихий, певучий и деликатный… я просил, чтобы она дала мне руку… хотел согреть… у нее была такая холодная, нежная, маленькая рука… я просил, чтобы она не смотрела на меня так недоверчиво… такая холодная, нежная, маленькая рука…
Андреас слушал, как слушал всегда, когда его что-то очень занимало; слушал, сгорбив вперед плечи, глаза — совсем черные, огромные, и взгляд — странно упорный и словно бы остановленный странно…
Вдруг отец перестал говорить. Его старческие, слезящиеся под нависающими сморщенными веками глаза вдруг широко раскрылись. Он с ужасом и мучительной жалостью смотрел, не отрываясь, на человека, сидевшего на краю постели. Это был его единственный сын. И он вдруг увидел ясно болезнь своего сына; почувствовал, что это за болезнь; понял всю неизбывность, неотвратимость…

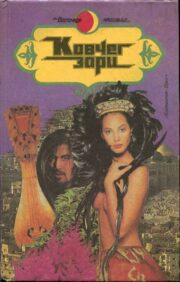
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.