"Мы не проходили обычного карантина; через час после того, как корабль пришвартовался и был поставлен на рейд, генерал уже находился в доме, в котором он родился.
— Как тебе нравится мой родной край? — спросил он меня.
Я ответил, что очень нравится.
— Это что! Вот погоди, скоро будем в Париже!
Многие красивые женщины оказали мне благосклонность, как чужеземцу.
Мы вернулись на корабль, чтобы отправиться в Тулон, но плохая погода задержала нас на Корсике еще на день. Когда мы, наконец, отплыли, мой генерал и генерал Бертье, смеясь, шутили надо мной:
— Подумать только! Ты половчее нас! Ты уже имел женщин во Франции, а мы — нет".
Пока Бонапарт держал путь к берегам Франции, в Париже Директория продолжала свои шутовские празднества. «Чудесные», «Мюскадены» и «Невероятные» танцевали и спекулировали дефицитными продуктами в точности как их потомки, так называемые «зазу», в перерыве между спекуляциями на черном рынке, отплясывали свинг в слишком длинных пиджаках и слишком коротких панталонах, обутые в «мокасины» с толстенными подошвами, потряхивая лохматыми челками…
Очень странно звучали беседы "позолоченной молодежи Директории: они, подражая знаменитому певцу Гаре, не произносили "р". Вот образчик таких ошеломительною глупых диалогов, подслушанный и записанный где-нибудь на Елисейских полях!
— О, это было п'ек'ек'асно, эта 'ечь Бааса (Барра-са) — Вы слышали ее?
— О да, мой д'уг, он, бесспо'но, самый выдающийся член Ди'екто'ии!
— А что Вы скажете нового об его мет'ессе?
— Кото'ой? У него их т'и.
—О, конечно же, о Ланж [25].
Эти молодые люди, среди подобного детского лепета проворачивавшие выгодные сделки с дефицитным сахаром или сливочным маслом, были «любимчики» Барраса, а его любовница, мадемуазель Ланж, была в то время главным объектом парижских пересудов. Актриса легкого нрава, она только что вышла замуж за богатого каретника из Брюсселя, но не покинула постели Барраса.
Парижане оживленно обсуждали ее похождения, пересчитывали ее любовников, заключали пари о числе ее родинок, уверяли, что она раскрасила свое прелестное покрытое нежным пушком тело «в цвета города Парижа», копировали фасон ее сорочек; одним словом, она была подлинным идолом «позолоченной молодежи».
В конце сентября она стала героиней небольшого скандала, характерного для Парижа. Она заказала свой портрет Жироде, талант которого в это время уже был общепризнан. Художник исполнил заказ и вывесил картину в Салоне, где она вызвала большой интерес парижан.
Мадемуазель Ланж тоже явилась «полюбоваться на себя» в сопровождении критика из журнала «Салонный Арлекин». Увидев картину, она завопила:
— Какой ужас! Что за негодяй этот художник… У меня совсем не такой нос!
У нее начался нервный припадок, и ее пришлось уложить на канапе.
На следующее утро критик разнес в своей газете живопись Жироде. Художник в негодовании изрезал полотно на кусочки, сложил в пакет и отослал заказчице. Но в отместку он тайно нарисовал другой портрет мадемуазель Ланж, изобразив ее нагой в виде Данаи, осыпаемой золотым дождем. Муж ее был изображен на картине в виде индюка. Посетители Салона были в восторге.
— Теперь теологам не к чему вести споры о том, к какому полу принадлежат ангелы, — шутили остроумцы.
Так развлекались парижане, когда корабль Бонапарта приближался к берегам Франции.
БОНАПАРТ, ВОЗВРАТИВШИСЬ В ПАРИЖ, НАХОДИТ СВОИ ДОМ ПУСТЫМ
"Эхо! Эхо!
Только эхо,
только эхо
слышу я…"
9 октября 1799 года в своем особняке на улице Виктуар Жозефина лежала на кровати в роскошной и бесстыдной позе, которая вдохновила не помню уж какого художника конца XVIII века.
Совершенно голая, она лежала рядом с Ипполитом Шарлем, который шутки ради — или в знак поклонения — «положил ей между раскинутых ног осеннюю маргаритку».
Увенчанная в надлежащем месте цветами, она напоминала «самое богиню Флору».
После любовной битвы, когда взвивались простыни и летели на пол подушки, любовники спокойно беседовали:
— Уже семь месяцев от Бонапарта нет вестей… Наверное, погиб там в песках, тем лучше… Да если и жив, он — конченый человек… — говорила Жозефина, положив руку на грудь Ипполита Шарля и поглаживая его шелковистую кожу. — Я подумала недавно: с ним я жила всего год, а мы с тобой любим друг друга уже два года…
С легким смешком она положила ногу на живот Ипполита Шарля и добавила с наигранной непринужденностью:
— Настоящий мой муж — это ты! Я разведусь и выйду за тебя замуж…
И она впилась взглядом в лицо своего любовника. То, что она увидела, не обрадовало ее. Капитан гусаров растерянно молчал. На глазах Жозефины черты его неузнаваемо преображались: рот запал, нос удлинился, лицо стало маской ошеломленного полишинеля. Совершенно очевидно, что он понял, какие последствия может повлечь за собой брак с Креолкой.
Жозефине стало ясно, что она промахнулась. Накануне она обсуждала с Баррасом и Гойе, председателем Директории, проблему своего развода с Бонапартом. Баррас был решительно против; Гоне, надеявшийся впоследствии стать ее любовником, поддержал план Жозефины.
Однако отсутствие энтузиазма, проявленное месье Шарлем, решало вопрос. Неспособная долго сосредоточиться на одной мысли, беспечная Креолка решила развеселить нахмурившегося любовника и стала щекотать ему подмышки.
Отставной капитан, поняв, что опасность миновала, вздохнул с облегчением, разгладил морщины и занялся «с легкостью, умением и талантом маленькой цветочной вазочкой Жозефины».
Как всегда, ночь прошла бурно, и любовники в сладостном изнеможении заснули уже после того, как через небольшой мостик Гранж-Бательер прогрохотал последний дилижанс.
Наутро Жозефина отправилась в Люксембург, куда Гойе пригласили ее на обед.
За этим обедом гости развлекались историей, ходившей по всему Парижу, злополучным героем которой был видный член Института.
"Месье Л. был страстным любителем диковинок природы; он собирал их изо всех стран света, и они заполнили целый кабинет, где ученый с гордостью демонстрировал их знакомым. Однажды ему удалось заполучить шкуру бенгальского тигра; он надел ее на каркас, чтобы придать тигру вид живого существа, и многие друзья месье Л. уже полюбовались великолепным тигром.
Пока месье Л. занимался зоологией, мадам Л., его жена, страстно влюбилась в драгунского лейтенанта двадцати двух лет, прекрасного как Адонис и сложенного как гладиатор.
Когда ученый эрудит выходил из дому, лейтенант тотчас располагался в его апартаментах. Довольно долго любовники вели весьма приятный образ жизни, но хорошие времена не длятся вечно, и насмешница-судьба сыграла с ними злую шутку.
Случилось так, что ученый вернулся домой в то время, когда обычно находился в Институте, да еще привел с собой приятелей посмотреть на тигра.
Куда спрятать любовника? А если его увидят, какой скандал! И бедняга юркнул под тигриную шкуру и скорчился внутри каркаса, надеясь, что ученый зашел домой ненадолго.
Между тем в кабинет вошли муж и гости.
— Жена, эти граждане пришли посмотреть на мою шкуру!
— Вашу?..
— Ну да, шкуру нашего тигра!
— Вот она, граждане!
— О, она великолепна!
Гости восхищались, а дама трепетала. Они ходили вокруг, разглядывали; один погладил бархатистую шерсть, другой слегка приподнял шкуру…
— О, что я вижу! — воскликнул он, — эта шкура — на подкладке из армейского сукна!
Он потянул, чтобы лучше разглядеть, почувствовал сопротивление, но не отпустил; вдруг раздалось хриплое проклятье, и трое перепуганных зрителей устремились к дверям с криками:
— Да он живой!
В сотне шагов от дома они остановились, обсудили между собой происшествие и решили вернуться и разобраться в «проблеме тигра».
— Я все-таки уверяю вас, что он мертв, — повторял хозяин музея диковин природы.
Конечно, лейтенант давно удрал, и когда дрожащая троица решилась приподнять шкуру, они увидели только пустой каркас…".
Муж ничего не понял в этой истории и по-прежнему в тиши своего кабинета нежно гладил шкуру своего лучшего экспоната, а жена в это время в спальне ласкала красавца-драгуна…
Жозефина вместе со всеми хохотала над этой историей, когда во время десерта в гостиную вошел гвардеец и вручил Баррасу депешу. Прочитав ее, он повернулся к гостям и объявил:
— Бонапарт во Франции.
Это было как удар грома. Жозефина, побледнев, пролепетала;
— Где же он?
— Он высадился вчера во Фрежюсе. Через два дня он будет здесь.
Креолка была близка к обмороку. Как только Бонапарт окажется в Париже, Петиция, Жозеф, Люсьен расскажут ему о ней все — ведь родня Бонапарта ее ненавидит. Надо лететь ему навстречу, снова очаровать его, свести с ума… И она встала из-за стола.
— Я должна перехватить его на дороге в Париж, — сказала она. — Главное для меня — опередить его братьев. Им он может поверить, светской болтовни я не боюсь. Я объясню ему, что бывала на светских развлечениях, старалась быть принятой в лучшем обществе в его же Интересах, — чтобы его не забыли за время его отсутствия. Он мне поверит!
Попрощавшись, она немедленно отправилась к себе, и на следующее утро уже ехала вместе с дочерью в почтовой карете по направлению к Лиону.
Рассказывает королева Гортензия:
«Генерал Бонапарт высадился во Фрежюсе в момент, когда никто его не ожидал. Его встретили с энтузиазмом, горожане ринулись к фрегату, поднялись на борт, и толпа заполнила корабль, не думая об установлениях карантина. Франция той эпохи была несчастна и раскрыла свои объятия тому, кто мог ее спасти. К нему были обращены все надежды. Я выехала с матерью, чтобы встретить его. Мы пересекли Францию и в каждом городе, в каждой деревне видели триумфальные арки, воздвигнутые в честь его прибытия. Когда мы меняли лошадей, толпа окружала нашу карету, и люди спрашивали, действительно ли прибыл спаситель, — вся страна тогда называла его так. Потеря Италии, нищета народа считались результатом правления бессильной и малоумной Директории, и в возвращении Бонапарта французы видели божью милость».
Но Жозефине было не до политики. Она и не замечала триумфальных арок. С искаженным лицом, с полубезумным взглядом, она думала: «Если я увижу его первая, я спасена».
Прибыв в Лион, удивленная Жозефина увидела, что рабочие разбирают портики, обвитые цветами, и свертывают полотнища с торжественными приветствиями генералу. В чем дело? Обескураженная Жозефина остановила карету и, откинув шторку и высунувшись в окошко, спросила одного из рабочих:
— Я — гражданка Бонапарт. Почему снимают флаги и украшения?
Тот посмотрел на нее удивленно:
— Потому что праздник кончился… — сказал он. У Жозефины потемнело в глазах. Она с трудом прошептала:
— А Бонапарт?
Другой рабочий отозвался, удивленно подняв брови:
— Генерал Бонапарт проехал два дня назад…
Бедняжка почувствовала, что почва ускользает у нее из-под ног. Не в состоянии окончательно поверить в крушение своих планов, она пробормотала:
— Не может быть! Я еду из Парижа и не встретила его по пути…
Рабочий захохотал:
— Дорогая моя дама, есть ведь две дороги. Вы ехали бургундской, а генерал — бурбонской…
Не чувствуя тряски кареты, Жозефина, мертвенно-бледная, осунувшаяся, размышляла о своем положении. Впервые в жизни она осуждала себя за глупость, опрометчивость и распущенность. Она, такая мастерица плутней, такая ловкая и изворотливая, покинута, обманута, отвергнута человеком, которого радостно приветствует вся Франция, который, наверное, завтра займет место Барраса, — а она променяла его на какого-то красивого дурака, умеющего только заниматься спекуляциями да отпускать пошлые каламбуры… И она так легкомысленно афишировала свою связь с Ипполитом Шарлем, разгуливая с ним по бульварам Парижа, не думая о том, что семья Бонапарта следит за ней и сообщает ему обо всем…
Жозефину пробрала дрожь. Угроза развода была страшна женщине тридцати семи лет, увядающей, с испорченными зубами, с поблекшей кожей… А двое детей, которых надо обеспечить? А долги, которые она сделала, купив Мальмезон и обставив роскошной мебелью особняк на улице Виктуар, а долги на приемы, на наряды? Если Бонапарт ее отвергнет, чем она будет жить? Ни Баррас, ни Гоне не захотят заплатить полмиллиона франков и содержать двух детей в обмен на увядающие прелести и покрытые румянами морщины на лице…
Совершенно подавленная, она молча плакала…
В это время Бонапарт в сопровождении Евгения Богарнэ прибыл в Париж и сразу ринулся на улицу Виктуар, чтобы увидеть Жозефину. Он не сомневался, что его ждут, и дом сияет праздничными огнями.

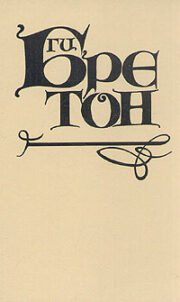
"Наполеон и женщины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наполеон и женщины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наполеон и женщины" друзьям в соцсетях.