Сейчас мне пришло в голову, что надо бы кое-что уточнить. А именно вот что: евангелистские христиане не останавливаются на полпути. Несмотря на оральную стимуляцию полового члена. Например (это вполне возможно), вас воспитали в католической вере, потом вы выросли, перестали подчиняться правилам, перестали ходить в церковь, и вообще, в вашей жизни нет ничего такого, что хотя бы косвенно указывало на то, что вы — католик, но тем не менее и вы сами, и окружающие считают вас истинным католиком. Но с евангелизмом все обстоит не так просто. Вы или евангелист, или нет. Вы или с ними, или против них. Поэтому, прежде чем мы пойдем дальше, я должна заметить, что сейчас я вышла из игры. Следует к тому же сказать, что именно это и раздражало меня в евангелизме с самого начала.
Я ненавижу говорить об этом в основном из-за своих родителей. Моих бедных родителей. Моих добрых, хороших, искренне верующих родителей.
Я хочу сказать, что ходила к психотерапевту в течение одиннадцати лет. Не сразу решилась упомянуть об этих одиннадцати годах психотерапии, потому что вы, без сомнения, решите: она чокнутая. Вопрос в другом: как человек с нормальными проблемами может дойти до одиннадцати лет лечения? Эту ситуацию может понять только тот, у кого в общем-то тоже все в порядке, но кто также лечился у психотерапевта достаточно долгое время, поэтому мне, наверное, не стоит продолжать. Самое интересное в том, как я вообще смогла позволить себе такое.
После окончания колледжа я чувствовала себя совершенно разбитой и подавленной и начала ходить в государственную клинику, где с меня брали всего тринадцать долларов за сеанс психотерапии. Одиннадцать лет пролетели как один миг. Особого прогресса я не достигла еще и потому, что это была учебная клиника, в которой студенты последних курсов подрабатывали в течение года, прежде чем сбежать в частные клиники. На деле это выглядело так: каждый сентябрь мой нынешний терапевт передавал мою папку с историей болезни новому парню, и нам вместе приходилось начинать все сначала, с моего детства.
Думаю, нет никакой необходимости перечислять всех моих терапевтов. Просто их было слишком много. Последнего звали Уильям, и он страдал от головокружений. Я, например, всегда считала, что головокружение — вымышленная болезнь. Ну, вроде тех недугов, которыми киношники пытаются объяснить, почему главный герой не может пробежать по мосту, чтобы спасти девушку. Уильям же и в самом деле страдал головокружениями. Ему иногда становилось так плохо, что во время наших сеансов он с трудом выползал из кресла и укладывался на пол у моих ног.
— Продолжайте, — говорил он мне при этом. — У меня просто очередной приступ.
— Может быть, мне лучше уйти? — спросила я, когда это случилось в первый раз.
— Почему вы должны уходить? — поинтересовался Уильям, глядя на меня с ковра снизу вверх. — Вы что, неудобно себя чувствуете?
— Да, — ответила я.
— А почему вам неудобно? — вопросил Уильям.
— Потому что мой психиатр лежит на полу, — сказала я.
— То, что я лежу на полу, — это всего лишь разумная реакция на мое головокружение, — возразил мне Уильям. — Почему вы от этого должны испытывать неудобство?
— Я не знаю, — ответила я. — Просто так получается.
— Это не пробуждает у вас никаких сексуальных ощущений? — поинтересовался Уильям.
— Совершенно никаких.
— Мне трудно в это поверить, — откликнулся он.
— Почему это?
— Потому что вас влечет к недоступным мужчинам, мужчинам наподобие Тома, который, даже являясь вашим приятелем, все равно эмоционально для вас недоступен, а я в качестве вашего терапевта недоступен по определению. — И все это не вставая с пола.
— Вы не выглядите недоступным, Уильям.
— Вы хотите сказать, что думаете, будто я испытываю к вам сексуальное влечение?
— Я этого не говорила, — ответила я.
— Ну, зато я говорю, — сказал он. — Не следует ли нам обсудить эту тему?
Конечно, мне следовало прекратить визиты к Уильяму, но я не сделала этого. Вы не должны забывать о том, что я платила каких-то тринадцать долларов за сеанс. А за тринадцать долларов за сеанс я готова была мириться с некоторыми признаками необычного поведения своего терапевта. И еще мне не хотелось поднимать волну в клинике, потому что если бы кто-то действительно дал себе труд просмотреть мою историю болезни, то достаточно быстро понял бы, что с меня нужно брать намного больше. Именно это, к несчастью, и случилось за три недели до той самой вечеринки. Когда я явилась, как обычно, в понедельник утром на очередной сеанс, директриса клиники просунула голову в приемную и попросила меня зайти в ее кабинет. Она усадила меня точно напротив и спокойно уведомила, что Уильям больше не будет работать у них в клинике. Его пришлось поместить в сумасшедший дом в смирительной рубашке и все такое, хотя об этом сообщила мне уже не она, а секретарша Иоланда. Могу себе представить, как это выглядело. Как бы то ни было, оказалось, что я — единственная пациентка Уильяма, которая не жаловалась на него, и именно поэтому я оказалась в кабинете директрисы. Она решила, что у меня действительно большие проблемы. Разумеется, у всех в клинике свои проблемы, просто она решила, что у меня они по-настоящему большие.
Все то, что я уже рассказала, нужно для того, чтобы вы поняли: когда происходили эти события, — те самые, что лежат в основе моего повествования, — и несмотря на то, что я лечилась у психотерапевтов целых одиннадцать лет, хорошего врача у меня не было. Конечно, я должна добавить, что я не вылечилась. Но все же у меня наблюдалась некоторая тяга и даже интерес к своему внутреннему «я», не говоря уже о близком знакомстве с самой собой. И именно поэтому, когда со мной случилось то, что случилось, — это стало для меня таким кошмарным «сюрпризом». Поймите, что я хочу сказать: одиннадцать лет психотерапии! Отец, который бросил меня, когда мне было всего пять! Можно было даже не копать глубоко, чтобы добраться до моего подсознания — вот он, прямо на виду, рок, притворяющийся судьбой. Правда заключается в том, что я могла бы построить график, объясняющий, почему у меня с Томом получилось то, что получилось. Я оказалась просто неспособна осознать, почему в жизни случаются неприятности, прежде, чем научиться избегать их. Не могу понять, как мне этого добиться, хоть убей. На этот вопрос я никогда не могла найти точного ответа ни сама, ни с помощью моих терапевтов. Я даже задала его Дженис Финкль — моему последнему настоящему врачу, той, которая была у меня до Уильяма, — во время нашего последнего сеанса, и она сказала мне:
— Ответа вы и не найдете.
— Не найду? — переспросила я.
— Не найдете, — ответила Дженис.
— Тогда какой смысл продолжать?
— А в чем, по-вашему, есть смысл? — сказала Дженис.
В общем, я так и не поняла, в чем заключается смысл. Еще одна загадка, которую я так и не могла разрешить, состояла вот в чем: религиозное воспитание, которое я получила в детстве, было источником моих психологических проблем или их решением? Кое-что я, естественно, вычислила, но мне это ни капли не помогло.
Глава третья
Поздно вечером, в то самое воскресенье, мне в дверь позвонили. Я провела предыдущие двадцать четыре часа дома, ожидая именно этого момента. И была полностью готова. Мысленно я отрепетировала долгую речь. Речь, которая начиналась с сурового порицания безответственного и просто неслыханного поведения Тома. Потом мысль развивалась в психологическое исследование всех трех сторон, участвующих в конфликте, и, наконец, заканчивалась предположением, что я люблю Тома, а он любит меня. Мы сможем пережить все, что случилось, при двух условиях: он согласится на разговор с семейным адвокатом и пообещает больше никогда не смотреть в сторону Кейт Пирс. Это была очень хорошая речь, и я просто горела нетерпением ее произнести. Потому и подошла ко входной двери и посмотрела в глазок.
— Я должен сообщить вам нечто ужасное, — сказал через дверь мужчина, который вовсе не был Томом. — У вашего приятеля роман с моей подружкой.
Я сняла цепочку и открыла дверь.
— Вы, должно быть, Андрэ, — сказала я.
— Откуда вы знаете? — спросил он.
— Я знаю все о Томе и Кейт, — ответила я, — потому и полагаю, что вы — Андрэ.
Множество мелочей, которые привели Андрэ к моему порогу, сразу позволили мне почувствовать себя лучше. Но самым очевидным было то, что он чувствовал себя куда хуже меня. Не говоря уже о том, во что он был одет (зеленый спортивный костюм), или о том, что он довольно давно не брился. Хотя и этого было достаточно. Скорее, то, что Андрэ дал себе труд разыскать меня и постучать в мою дверь, выглядело таким полным безысходного отчаяния поступком, что по сравнению с бывшим дружком Кейт я почувствовала себя образцом благоразумия. Я впустила его, мы уселись за кухонный стол и немедленно принялись за бутылку отличного виски, припасенного Томом.
— Расскажите мне все, что вам известно, — попросил Андрэ. — А потом я расскажу вам все, что знаю.
Знала я не очень много. Собственно говоря, единственное, что мне было достоверно известно, — это то, что Кейт с Томом встречались за ленчем. Андрэ невозмутимо покачал головой, услышав эту новость, поскольку он тоже знал об этих встречах. Андрэ, как оказалось, знал все остальное. Он следил за ними несколько месяцев — пять, если быть точным, то есть ровно столько, сколько продолжался их роман, — а то, чего он не смог узнать сам, шпионя за ними, Кейт высказала ему прямо в лицо четыре дня назад, когда решила порвать с ним. Она хотела, чтобы он выехал из их квартиры, а Андрэ решительно отказался переезжать. Он заявил мне, что надеялся полюбовно обо всем договориться, пока они не сделали какой-нибудь ужасной глупости. А она принялась в ярости пересказывать ему снова и снова все унизительные подробности романа с Томом, рассчитывая, насколько я понимаю, задеть его чувство гордости. Наше с Андрэ знакомство длилось всего пятнадцать минут, но сразу же возникло ощущение, что взывать к его чувству гордости было большой ошибкой.
— А потом, когда она поняла, что я не собираюсь уезжать, она собралась и ушла сама, — закончил Андрэ.
— Куда она пошла? — спросила я.
— Это одна из тех загадок, ответ на которые знаете вы. Я рассчитывал на это, — сказал он.
— Так вот, я не знаю, — произнесла я. — И даже если бы знала, не вижу, чем бы нам это могло помочь.
Андрэ выразительно посмотрел на меня, поражаясь моей наивности. Ему совершенно очевидно было, что необходимо установить местонахождение Кейт и Тома, если он и дальше собирался шпионить за ними.
— Почему вы так хотите, чтобы она вернулась? — спросила я.
Он глубоко вздохнул.
— Она похожа на наркотик.
— Замечательно, — выразила восхищение я.
— Мне ее не хватает, — заявил он.
Мы посидели какое-то время молча, и на лице у Андрэ явственно отобразилось испытываемое им любовное томление. И только я собралась намекнуть, что ему, вероятно, уже пора уходить, как он повернулся ко мне и спросил, каков был Том в постели.
— Я не собираюсь отвечать на ваш вопрос, — сказала я.
— Да ладно вам, — заметил Андрэ. — Мне же нужно знать, с чем придется бороться.
— Не думаю, что дело в том, как ведет себя в постели тот или иной человек.
Андрэ тупо уставился на меня.
— Тогда в чем дело, по-вашему? — вопросил он.
— Я думаю, что у Тома кризис и что ему самому нужно кое в чем разобраться.
— Правда? — спросил Андрэ.
— Да. И я не намерена ему мешать, — заявила я.
— Знаете, вы очень самоуверенная особа, — заметил Андрэ. — Вы кажетесь очень самоуверенной.
— Благодарю вас.
— И еще вы очень милы, — добавил он, задумчиво покачивая головой.
— Благодарю вас.
Несколько мгновений мы сидели молча.
— Моя мать умирает. У нее рак поджелудочной железы, — сказал он так, словно об этом все уже давно знают, а потом перегнулся через стол и взял меня за руку.
Момент наступил достаточно неловкий. Я не могу сказать, почему мы держались за руки — то ли потому, что мать Андрэ умирала от рака поджелудочной железы, то ли потому, что наши любимые оставили нас, то ли потому, что мы оба были пьяны. Но я осторожно высвободила свою руку.
— Извините меня, — произнес Андрэ.
— Ничего, все в порядке, — ответила я.
Освободившейся рукой я поболтала стаканом с виски.
— Думаю, что вы правы, — сказал Андрэ. — Это может быть просто этап жизни.
— Я думаю, что это кризис, — ответила я, — а вовсе не этап.
— А какая разница? — спросил Андрэ.

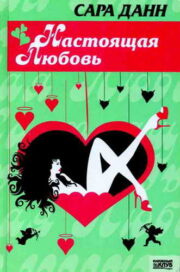
"Настоящая любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Настоящая любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Настоящая любовь" друзьям в соцсетях.