Я сказал, что, когда Ксюшенька узнала, что с Кариной произошла беда, она очень ей помогла и морально, и даже материально. Ирина только плечами пожала:
– Люди меняются, – повторила она. – Столько лет прошло, можно было и повзрослеть.
Я вспомнил комментарии Ксюшеньки на страницах знаменитостей и только плечами пожал. Меняются? Может, да, может, нет, а может – в чем-то меняются, но в чем-то остаются прежними. Кто знает?
Потом Ирина порывалась уйти, но я сказал ей, что ни к чему искать гостиницу в такое позднее время, если сама Карина пригласила ее остаться у нас. В конце концов Ирина согласилась.
– Я намерена снять квартиру, – поделилась она своими планами, – недалеко от редакции. Только подыщу что-то подходящее.
– Можете пожить пока у нас с Кариной, – сказал я. – У меня есть однушка, родительская. Там сейчас квартиранты, но после Нового года они съезжают. Если хотите, я вам ее предоставлю, конечно, совершенно бесплатно.
– Ну что вы, – ответила она. – Я вас буду стеснять!
– Ни капли, – сказал я. – Квартира, сами видите, хоть в футбол играй, и одному здесь чертовски одиноко. Сейчас, когда Карина в больнице, я прямо на стену лезть готов по вечерам. Мне здесь до Карины было неуютно, а без нее – вообще хоть стреляйся.
– А почему вы не завели себе какое-нибудь животное? – спросила она. – Собаку, кошку, хоть хомяка?
Действительно, почему? Я пожал плечами:
– Не знаю… но теперь уже поздно. Говорят, все выздоравливающие после химиотерапии – аллергики, так что не заведешь даже чучело совы.
То ли присутствие Ирины на меня влияло благотворно, то ли принятое решение бороться и не сдаваться, но теперь мрачные мысли несколько отступили на задний план. Вместо них появились другие, конструктивные. Я уже думал о том, как мы будем жить потом, после выздоровления Карины.
Конечно, у человека, пережившего рак, жизнь сильно меняется. Как говорил Василий Владимирович, никогда не знаешь, побеждена болезнь или только затаилась. Нам предстоят ежемесячные обследования, предстоят, может быть, и диспансеризации; строгая диета и осторожность во всем тоже станут нашим правилом. Возможно, придется поставить крест даже на путешествиях. Онкобольному, даже вроде бы полностью излечившемуся, многое нельзя из того, что доступно условно здоровому. А я ведь так и не свозил ее на море, как планировал.
И я, вполне здоровый, ничем вроде не ограниченный, молодой мужчина, буду вести точно такую же жизнь. Я буду соблюдать все ограничения, которые будут у Карины. И курить, и даже парить, мне придется бросить. Но…
Карина стоила того.
У меня не было ни малейших сомнений на этот счет. Именно поэтому, а не ради показной солидарности, я побрил голову. Я буду как она. Не Карина больна – больны мы оба; не Карина выздоровеет – я выздоровею с ней вместе. И в своем самоограничении Карина не будет одинока. Я разделю с ней эту ношу, насколько только смогу.
Я показал Ирине спальню, показал, где лежит свежее белье (то, на котором спал я, я забрал), показал, где ванная и санузел, и отправился в свой полупустой кабинет. Туда я перетащил кушеточку, на ней себе и постелил. Перед сном проверил «Мы», просмотрел блог Карины – сегодня она не делала записей и вообще писала теперь не каждый день. Зато размещала «больничные селфи», от которых мне становилось так тоскливо и плохо, что действительно хотелось сунуть голову в петлю, и подробно описывала диагнозы, процедуры, все происходившие с ней изменения… Сейчас она при росте сто семьдесят два сантиметра весила сорок два килограмма и считала это победой – в самое худшее время ее вес опускался до тридцати восьми.
Я недолго оставался у Карины на странице. Просто не мог это долго выдержать. Подчиняясь какому-то спонтанному чувству, я зашел на страницу к Ксюшеньке.
Ксюшенька много писала про Карину и репостила ее записи. Она размещала у себя мотивирующие картинки – очевидно, для своей подруги. Среди записей я нашел немного высказываний о себе. Высказывания эти меня неприятно удивили. Со слов Ксюшеньки получалось, что я мало уделяю Карине внимания и человеческого тепла. Что, вместо того чтобы «всю жизнь посвятить выздоровлению своей любимой женщины», я изредка у нее бываю, отчего больная и сражающаяся со страшным недугом Карина целыми днями в тоске.
«Сергей, как и все мужланы, искренне уверен, что деньги могут заменить искреннюю заботу, любовь и сочувствие», – писала Ксюшенька. У меня на глаза даже слезы от обиды навернулись, так это звучало несправедливо. За что? Чего я не сделал для Карины? Да я ради ее выздоровления готов был даже живым войти в печь крематория – если бы в этом имелся хоть малейший смысл.
Я заснул, но сон мой был тревожен. Впрочем, а каким еще он мог быть в таком состоянии? Я оказался то ли в примерочной – но для примерочной там находилось слишком много зеркал, то ли в «комнате смеха» – но зеркала были нормальными, не кривыми.
Не знаю, может, это какое-то воспоминание детства, когда меня напугали зеркала, – но я не помню ничего подобного. Тем не менее в моих кошмарах они присутствуют чуть больше, чем всегда. Вот и сейчас…
Сначала в зеркалах я видел только самого себя – сперва такого, каким я был полгода назад. Но постепенно я менялся – старел, седел и в конце концов предстал таким, каким я выглядел сейчас, – бритым наголо, с порезами на голове. А затем я увидел вместо себя такую же обритую Карину.
Мне стало страшно. Мне показалось, что я не просто вижу себя в зеркале Кариной – что я превратился в нее наяву. Что это я лежу в больничной палате, а внутри меня зреет смертельная опухоль. И ее никогда не прооперируют, потому что это вообще невозможно. У мужчин не бывает опухоли матки, поскольку никакой матки у них нет.
Значит, я умру.
И я истошно закричал. Даже не от страха. Это была странная смесь ужаса – и радости. Мне стало страшно, что я умру, но ведь если умру я, то Карина будет жить!
Когда я открыл глаза, мне показалось, что мой полукошмар продолжается и я вижу Карину, но затем я понял, что это ее сестра. Лицо ее выражало тревогу.
– Что вы здесь делаете? – спросил я, постепенно приходя в себя.
– Вы кричали. – Она смутилась. – И смеялись. Очень страшно.
– Смеялся страшно? – Я встал с кушетки (заснул я, как был, в домашних брюках, так что особо не стеснялся).
Она кивнула:
– Да… такой смех только в фильмах ужасов бывает.
– Который час? – спросил я ее, одновременно сообразив, что могу посмотреть время на включенном ноутбуке. Было шесть сорок две.
– Полседьмого, – ответила она. – Хотите, я приготовлю завтрак?
– Если вас не затруднит, – кивнул я; мое внимание уже переключилось на сеть. Пока Ирина готовила завтрак, я проверил, как работает «Мы» – ядро, системы защиты, фильтры, антивирусы, фаерволлы и так далее, все, что нужно. Сеть работала, как хорошие швейцарские часы. Да уж… в чем-то харьковский американец Генка прав – в нашем мире по-настоящему доверять можно только железу. Даже если наша цивилизация погибнет, наши компьютеры покорно продолжат выполнять написанные нами программы, и в соцсетях будет продолжаться имитация человеческого общения, ведь ни для кого не секрет, что более половины пользователей этих сетей – боты, программы, подражающие людям. И только «Мы» будет стоять пустынной и одинокой, поскольку ботов я в нее не пускаю.
Я немного отвлекся от своих тяжелых мыслей, думая о соцсетях. Почему мы не можем отличить ботов от реальных людей, общаясь с ними, ведь это – всего лишь программа? Может быть, потому, что очень многие из нас мыслят так же примитивно, как боты? Для того чтобы агрессивно проталкивать свои идеи и оскорблять каждого, кто с ними не согласен, много ума не надо – достаточно довольно простенькой программы. Так что можно сказать о людях, которые ведут себя подобным образом? Может быть, причина того, что мы не можем отличить программу от живого человека, не в том, что программа поумнела? Может, это мы стали глупее, грубее, примитивнее?
Кстати, о примитивах.
Я заглянул на страницу Ксюшеньки. Это существо выбиралось в Сеть по ночам, днем лишь иногда постило короткие замечания. Прямо как в сказке – девушка, которая ночью превращается в самку тролля. И таких в Сети легионы, увы.
Предсказуемо подружайка Карины разразилась очередным вбросом. Начинался он путаными рассуждениями о том, что мужчины, по сути, являются «генетически неправильными женщинами» и «генетическая ущербность» в виде У-хромосомы обуславливает их психическую ущербность, агрессивность и неспособность к состраданию.
«Мужчина психологически не способен поставить себя на место другого человека, тем более женщины, – писала наша маленькая гендерная фашистка. – Другие люди воспринимаются им как соперники, как объекты, которые следует подчинить, а не пытаться с ними сотрудничать».
Интересно… мы считаем, и считаем правильно, что считать другую расу или нацию «генетически ущербной» – преступление. Мы называем это фашизмом, и он получил свое осуждение в Нюрнберге семьдесят лет назад. Но почему же подобные рассуждения в половом смысле считаются если не нормальными, то, по крайней мере, вполне допустимыми? Я нигде не читал о том, что феминисток за их высказывания хоть как-то осуждают. Может, потому, что их никто не воспринимает всерьез? Так и Гитлера с его «Мейн Кампф» никто не воспринимал всерьез…
Предсказуемо, что в образе «мужской шовинистической свиньи» выступал ваш покорный слуга.
«Я наблюдаю за этим самодовольным самцом, – писала Ксюшенька, – и не вижу у него ни тени настоящего сочувствия, только его имитацию. Все его действия направленны лишь на создание видимости сострадания. Я не удивлюсь, если он решит, к примеру, не жрать или побриться наголо, чтобы показать, как он якобы страдает. Но его каменная душа не способна ни к состраданию, ни к сочувствию, как камень не может плакать…»
Я с раздражением закрыл блог. Что она знает о моем страдании? Это она царапала пальцами цементные стены подъезда, обливаясь слезами отчаянья и бессилья? Это она стояла на краю крыши собственной высотки, и от прыжка вниз ее удерживала только одна мысль – что Карине от этого будет плохо?
В своей статье Ксюшенька все это называла «ущемленным эгоизмом». Дескать, мужчина переживает из-за болезни своей женщины только потому, что уязвлено его чувство собственника. Он не хочет терять то, что привык считать своим. Казалось бы, в этом есть смысл? Но я был готов отдать свою жизнь, чтобы Карина жила. Без меня. Не в моей власти, не будучи моей. И если бы я повстречал на улице даму в саване и с косой, я бы, без всякого сомнения, без малейших колебаний предложил ей такой обмен. Так есть ли в этом моем чувстве хоть доля того эгоизма, о котором писала Ксюшенька? И если это эгоизм – тогда что не является эгоизмом? Возможна ли любовь больше той, когда отдаешь жизнь за того, кого любишь?
Я закрыл блог Ксюшеньки и поклялся никогда больше не заглядывать в него. Как оказалось, это была моя ошибка.
Ирина позвала меня завтракать.
– Я израсходовала все, что нашла у вас в холодильнике, – сказала она извиняющимся тоном. – Чем вы вообще питаетесь?
Я пожал плечами:
– Честно говоря, не знаю. Я давно ничего не готовил. Я даже не помню, когда ел последний раз. Может, вчера, но не факт.
– Ужас какой, – сказала она. – Неудивительно, что я не сразу вас узнала. Вы очень осунулись и выглядите старше. Так нельзя.
– Почему? – спросил я.
– Вы должны быть сильным. – Она выложила мне на тарелку половинку омлета с мясом. Вторую половинку положила себе. Омлет, надо сказать, выглядел потрясающе аппетитно, как с кулинарного сайта. – От этого зависит благополучие Карины. Ей нужна будет вся ваша поддержка, вся ваша сила. Своей у нее пока еще немного.
Она тряхнула головой – это было ее «фирменное» движение, такого я не видел ни у кого раньше. При этом ее длинные волосы (Карина стригла их короче, до лопаток, у Ирины они были до пояса) не рассыпались, а лишь плавно струились вдоль шеи и плеч.
– Вот что, нам надо будет сегодня сходить в… – она задумалась, – general store?
– Супермаркет, – подсказал я. – Конечно, я туда каждый день забегаю, чтобы купить что-нибудь для Карины.
– А для себя? – спросила она.
– Иногда покупаю доширак, – сказал я равнодушно.
– Что это такое? – спросила она.
Я подумал и ответил:
– Рамен быстрого приготовления. В Калифорнии тоже такие есть.
Она кивнула:
– Фу, какая гадость!
Я пожал плечами:
– Как по мне, вполне съедобно.
– Но так же нельзя, – убежденно сказала она и добавила: – Пока я живу у вас, я о вас позабочусь. Ради Каришки. Уверена, что она бы этого хотела.
Я отломил кусочек омлета и съел. Довольно вкусно, насколько вообще может быть вкусным омлет. У меня «домашняя» пища в основном ассоциировалась с быстрым перекусом: несмотря на современную кухню, мы с Кариной заказывали блюда в кафе, а готовили только тогда, когда лень было делать заказ, и готовили что-то совсем простое. Хотя омлет тоже вроде бы не особо сложно, но Иринин омлет оказался по-настоящему вкусным. Хотя, может, я просто проголодался, но не обращал на это внимания.

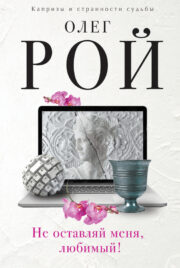
"Не оставляй меня, любимый!" отзывы
Отзывы читателей о книге "Не оставляй меня, любимый!". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Не оставляй меня, любимый!" друзьям в соцсетях.