Как-то, когда мы втроем шли по бульвару, мужчина сказал, наклонившись ко мне, обреченно сосущей леденец:
— Твой отец — петух. Ему положено питаться крошками с барского стола. А я тигр. Ем только свежее сырое мясо.
— Но ты еще и скорпион, — подала голос мама. — С удовольствием жалишь себя в задницу.
Он так и взвился от этих слов. И ушел, правда, поминутно оглядываясь. Маме хотелось, чтоб он вернулся — я чувствовала это по ее вздрагивающей руке, за которую держалась. Я почему-то заревела на всю улицу, хотя в ту пору все происходящее вокруг меня казалось сплошным кино.
В тот день мы с мамой купили разных деликатесов и фруктов, букетик фиалок и одну темно-красную розу. Мы долго ждали отца. Мама зажгла на столе свечу. Я заснула, так и не вкусив деликатесов. Слышала сквозь сон, как хлопала дверь, звякала посуда, включался и выключался свет.
Я больше никогда не видела маминого лица в раме из дубовых листьев — наутро зеркало зияло рваной с острыми краями дырой, за которой оказалась гнилая фанера.
Через два дня я сидела на вагонной полке рядом с бабушкой, папиной матерью. Родители по очереди поцеловали меня — с явным облегчением, хотя и не без грусти. Они держались за руки, как только что помирившиеся мальчик с девочкой, мать то и дело клала голову отцу на плечо.
Я чахла с каждым днем, хотя бабушка обращалась со мной хорошо и была справедлива. Но детям, как мне кажется, нужно что-то, кроме этой справедливости или даже вместо нее. Не знаю точно, что именно. Знаю только, что я очень скучала по маме, по хрупкому миру молодых эгоистических страстей и любви, огражденному этой своей хрупкостью от всего на свете. Я скучала по запаху ее тела, по опереточным мелодиям, превращающим жизнь в яркий манящий своей бездумной сиюминутностью праздник.
Нежданно-негаданно из Москвы нагрянула моя родная тетка — Нина, Нинель, старшая сестра отца. Красивая, модная, по-столичному пренебрежительная к провинции, снисходительно ласковая и даже участливая ко мне. Я влюбилась в нее с первого взгляда — в ее прическу, многочисленные серебряные, весело позвякивающие кольца-браслеты, в ее «А у нас в Москве…» Ну и во все остальное, разумеется.
Нинель мгновенно приценилась ко мне: восторженна, привязчива, робка. Я подходила для ее Стаськи, девочки, родившейся с усохшей ножкой, — капризной, избалованной, ежеминутно требующей к себе любви и внимания. Тетке, я понимала, нужна была свобода от Стаськи, которая давала бы ей возможность жить так, как ей хотелось. Дядя Антон, генерал, приносил в дом по тем временам большие деньги, обожал Стаську и пил по-черному. Мои родители не возражали против моего переезда в Москву. Я стала москвичкой, как когда-то Золушка — принцессой.
К Стаське я очень привязалась и, наверное, даже полюбила эту развитую не по годам девочку, все и вся попирающую, добрую, когда захочет, злую и капризную по натуре. Я с удовольствием потакала Стаськиным прихотям. Я чувствовала, что нужна Стаське, что без меня она может даже умереть — она говорила мне об этом. Мы жили весело, в обособленном от взрослого влияния мире, где в день контрольной отказывались звонить будильники, где двенадцатилетние девчонки ходили в кино, куда не пускали «до шестнадцати», где гости делились на «приносящих дары» (хахали Нинели) и «приносящих бутылки» (собутыльники дяди Антона), где существовала истинная любовь, зашифрованная в музыке, которую нам предстояло расшифровать с тем, чтобы жить по ее законам. Стаська, довольно хорошо знавшая изнанку жизни своей матери, ловко ее шантажировала, вымогая для нас обеих всяческие блага — от досрочных каникул до новых босоножек и карманных денег. Родителей я видела редко — поразительное дело, но я моментально отвыкла от них, хоть и часто вспоминала, главным образом со страхом: вдруг появится мать, и в одночасье рухнет моя новая, почти райская жизнь.
Мать не появлялась. Мать регулярно писала мне ласковые сентиментальные письма, которые я прятала от Стаськи, опасаясь ее острот по поводу «милых провинциальных родственничков».
…Я и по сей день продолжаю думать, что у нас с Митей было такое, что случается, как и рождение гения, раз в столетие. Мы с ним походили друг на друга, как близнецы, — я имею в виду внутреннее сходство. Наша любовь вспыхнула моментально в силу этого духовного родства. Она же в силу этого родства была и обречена с самого начала. Короче, я подошла именно к его столику в закусочной «Прага», хоть он и был в дальнем конце от прилавка и свободных мест вокруг было навалом. Но я прошла со своим подносом через весь зал, споткнулась о чью-то ногу, облила себе руку горячим бульоном и наконец брякнула поднос на мраморную поверхность столика у окна, возле которого стоял молодой человек и смотрел куда-то вдаль.
Вдруг он повернулся в мою сторону и спросил:
— Который час?
— Четверть пятого, — ответила я.
— Спасибо. — Взгляд рассеянный, потом повнимательнее, потом внимательный и наконец неотрывный. — Вас зовут Милена, верно? У вас красивое и очень редкое имя. — Помолчав, добавил: — Вы устали, и у вас болит голова. Сейчас все пройдет.
Взмах рукой, туман перед глазами, и такое чувство, будто я пробудилась от долгого, глубокого сна.
— Спасибо. Вы почти волшебник. К тому же знакомы с латинским алфавитом. Но голова на самом деле прошла.
Дело в том, что на моей сумочке было написано «Milena». Мне подарили ее совсем недавно, и я ее очень полюбила. Мне казалось, имя Милена очень подходит девушке со светлыми длинными волосами, в юбке «солнце» с большими подсолнухами и пестрыми деревянными бусами на груди.
— А что вы можете сказать про меня? — спросил молодой человек.
— Вы очень расстроены тем, что вам… негде ночевать. Но как вас зовут, я не знаю, потому что нигде не написано. Саша… Нет, Леня. Нет… Митя. Вас зовут Митя.
Так мы и познакомились. Вместе вышли из закусочной, прошлись по бульвару, посидели на скамейке возле Пушкина. Скоро я уже знала, что Митя сдал экзамены в ГИТИС, что ему на самом деле негде ночевать, потому что он поссорился с другом, у которого до этого жил, что он одессит. Что касается меня, то он сообщил, что я принадлежу к типу людей, чья психика очень податлива влиянию извне. Но это вовсе не значит, что я бесхарактерная, безвольная и так далее.
— Я называю это состояние чувствительностью номер один, — сказал Митя и улыбнулся открытой мальчишеской улыбкой.
В тот вечер я привезла Митю на дачу, и мы втроем до поздних звезд пили чай на веранде. Я уже была влюблена в Митю по уши.
В ту пору я меньше всего думала о замужестве. Вообще, можно сказать, не думала о нем, хоть Нинель твердила нам чуть ли не каждый день, что пора, пора думать, приглядываться и так далее. Она поощряла, если я приводила в дом молодых людей, которым давала задним числом характеристики, главным образом убийственного характера. Наши со Стаськой мнения и вкусы обычно совпадали и были полной противоположностью мнению и вкусу Нинели.
Мы стали любовниками в первую же ночь, и случилось это как-то само собой, хотя, как мне казалось, у меня был какой-то комплекс неполноценности, и я побаивалась мужчин. Но ведь Митя был не мужчиной, не противоположным полом, к которому либо тянет, либо нет — Митя был Митей. И мной тоже. Точно так же, как я была им.
Отныне у нашей с Митей жизни была не только открытая, но и тайная сторона, о которой, похоже, никто не знал. После ужина мы болтали втроем на веранде, иногда играли в карты или в лото, потом я уходила к себе. Митя, ссылаясь на то, что ему за лето нужно постичь некоторые тонкости английского языка, доставал учебник, бумагу и ручку.
Стаська, пожелав ему спокойной ночи, шла в мою комнату, усаживалась у меня в ногах — на моих ногах — и подробно пересказывала мне свои ощущения, связанные с зарождением любви к Мите. Можно себе представить, что при этом испытывала я, мечтавшая об одном и твердившая мысленно: направо — береза, налево — голубая ель. Это Митя выдумал такое заклинание, которое повторял, ожидая меня между березой и елкой. Наконец Стаська уходила к себе, и я слышала, как она скрипит пружинами своей кровати и вздыхает — стены на даче были очень тонкие. Босая, в ночной рубашке я вылезала в окно и пробиралась незаметно, стараясь не шуршать травой, к условленному месту. Меня подхватывали две сильные руки, и я попадала в поле действия невероятно мощного источника энергии и переставала быть сама собой. Но это мое новое «я» было мне дороже всего на свете.
…Противно серело над нашими головами небо, и я проделывала тот же путь, но только в обратном направлении, укрывалась с головой ватным одеялом, дрожала под ним, куда-то проваливалась, возносилась. Я чувствовала себя совсем беспомощной, неприспособленной к окружающему миру. Мне было страшно в нем. Я отторгалась им, потому что осмелилась не подчиниться его законам. Я жила только тем, что ждала ночи.
За целую неделю я не спала ни минуты, хотя, как и прежде, валялась в постели до одиннадцати, чтобы не вызвать ни у кого подозрения. За завтраком мы с Митей старались не смотреть друг на друга. Зато Стаська не отрывала от него глаз, Стаськино лицо цвело алыми пятнами, у Стаськи дрожали руки, и она роняла ложки, ножи, вилки. Стаська угощала Митю, то и дело обращалась к нему, слушала его с восторженным видом. Словом, Стаська переживала счастливейшее состояние первой, наивной и вполне невинной девичьей влюбленности, которой не довелось пережить мне.
Я держалась безучастно — у меня попросту не было сил на участие. Что касается Мити, он, кажется, был польщен Стаськиным вниманием к его персоне, улыбался ей, говорил комплименты. Потом вдруг стрелял глазами в меня, тряс головой, опускал голову в тарелку, делая вид, что жадно ест, хотя, быть может, и на самом деле ел с жадностью. У меня, что называется, кусок в горле застревал, и я все время пила воду.
Начинался день, длинный и едва переносимый для меня и бесконечно счастливый и очень короткий для Стаськи. Она усаживала меня за рояль, она пела все подряд — арии из опер и оперетт, песенки из кинофильмов и телеспектаклей, сама сочиняла слова на знакомые мотивы. Дело в том, что Митя имел неосторожность сказать Стаське, что ему нравится тембр ее голоса.
Потом следовал бесконечный обед, придуманный Нинелью «тихий час» (ну да, все как в лучших домах), во время которого я была вынуждена запираться на крючок в своей комнате и не откликаться на Стаськины мольбы поболтать. Во время одного из таких «тихих часов» крючок вдруг резко подпрыгнул и открылся. Митя двигался стремительно и бесшумно, словно вышедшая на охоту кошка. Мы легли на циновку на полу, чтоб не скрипели пружины допотопной кровати. Я видела прозрачную цепочку облаков, плывущих сквозь листья березы под моим окном. Они до сих пор стоят у меня перед глазами…
— А я думал, никогда не встречу такое, — сказал вдруг Митя. — Это будто из области мечтаний и сновидений.
Он встал и долго смотрел на меня сверху вниз. Потом протянул руку, помог мне подняться, хотел что-то сказать, но передумал и быстро вышел из комнаты.
Я легла на кровать, натянула на голову одеяло и заснула либо потеряла сознание. Когда я проснулась или пришла в себя, за окном светила луна.
Я вскочила, завернулась в халат и вышла на веранду. В доме было удивительно тихо. В кухне пробили часы: хриплое «ку-ку» и сдавленный всхлип колокольчика. Но у меня было чувство, что время они отмеряют не для меня, что я живу в ином времени, а может, даже вне его.
Я спустилась на лужайку перед верандой, где обычно стояли три шезлонга. Теперь стоял только один. Больно кольнуло сердце, на какое-то мгновение я потеряла равновесие. Я стала обходить дом вокруг. На границе сада с цветником была беседка: круглая крыша на четырех столбах, стены заменял буйно разросшийся дикий виноград. В ней звучали голоса… Сперва я их не узнала — наверное, потому, что никогда не слышала эти голоса такими. Потом я поняла, кому они принадлежат, но тут под моей ногой хрустнула ветка, и голоса мгновенно смолкли.
Через минуту из мрака виноградных зарослей появился Митя. Он увидел меня сразу.
— Тебе тоже не спится? — спросил он. — Такая волшебная ночь… Иди в беседку, а я схожу за шезлонгом. Знаешь, Стася гадала мне по звездам, и вышло, что меня любит девушка, которой я могу спокойно вверить свою судьбу.
Я села в шезлонг напротив Стаськи. У нее ликующе поблескивали глаза.
— Предки умотали в столицу, — сообщила она. — Можно не спать всю ночь, пир можно закатить: в шкафу есть бутылка шампанского и четвертинка коньяка. Вива двадцать седьмое июля, светлый праздник больших надежд, которые могут взять и сбыться!
Мити долго не было. Наконец он пришел и поставил на стол бутылку шампанского и бокалы. Чуть позже мы перебрались на веранду, пили коньяк с шоколадными конфетами и кислыми яблоками и шумели так, что глухая домработница Лина стучала нам в стенку. Потом мы очутились в мансарде, в спальне Стаськиных родителей, и все трое забрались с ногами в их супружескую кровать.

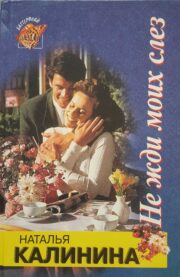
"Не жди моих слез" отзывы
Отзывы читателей о книге "Не жди моих слез". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Не жди моих слез" друзьям в соцсетях.