Куда бы ни шла Нефертити, Тутмосу надлежало идти за ней. Ему велено было сделать зарисовки, изображающие царственную пару во все моменты их жизни, и даже позволено было сидеть рядом с помостом в Зале приемов — с точки зрения моей матери, это было возмутительно.
— Откуда нам знать, что ему можно доверять? — спросил отец.
Нефертити рассмеялась:
— Да оттуда, что он художник, а не шпион!
Даже фараон был очарован этим изящным молодым художником. Тутмос — всегда со свитком на коленях — изучал Аменхотепа, пока царь играл в сенет или гнал колесницу по мемфисской Арене. От входа на Арену я видела, как Тутмос уселся рядом с матерью, и она улыбнулась, когда он выразил восхищение ее глазами.
— Да осталось ли для него хоть что-то недозволенное? — возмутилась я.
Нефертити проследила за моим взглядом. Мерит помогала моей сестре надеть кожаные поножи для верховой езды, хотя та была на пятом месяце беременности.
— Только наши покои, — призналась Нефертити. — Но мне кажется, Аменхотеп передумает.
— Нефертити! Ты что, шутишь?
Нефертити самодовольно улыбнулась.
— Ваши покои?!
— А почему бы и нет? — бесстыдно вопросила она. — Что там прятать?
— Но что же тогда остается личным?
Нефертити подумала мгновение, затем надела шлем.
— Ничего. В наше царствие личного нет ничего, и потому нас запомнят в Египте навеки.
Я прошла вместе с сестрой до выхода на Арену. Ее ждала колесница, запряженная двумя могучими конями. Тутмос протянул мне руку, помочь подняться на ярус для зрителей. Я поколебалась, потом приняла руку. Рука оказалась на удивление гладкой для скульптора, работающего с резцом и известняком.
— Сестра главной жены царя, — произнес Тутмос.
Я подумала, что сейчас он скажет что-нибудь лестное и про мои глаза, но он лишь молча рассматривал меня. В кои-то веки вокруг него не толпилось два десятка придворных дам. Сегодня Аменхотепу захотелось проехаться рано утром, и придворные еще крепко спали в своих постелях. Я вздрогнула, и Тутмос кивнул.
— Значит, ты пришла посмотреть на его величество. — Скульптор многозначительно обвел взглядом пустые ряды. — Ты — преданная сестра.
— Или глупая, — пробормотала я.
Тутмос рассмеялся, придвинулся ближе и сознался:
— Даже я сегодня утром всерьез задумался, стоит ли мне покидать постель.
Мы дружно посмотрели на Аменхотепа, который в своей ослепительно сверкающей колеснице мчался наперегонки с Нефертити и его нубийскими стражниками. Их радостные крики были слышны даже сквозь храп лошадей и топот копыт, и стены Арены отражали и усиливали этот шум. От нашего дыхания в холодном утреннем воздухе поднимались струйки пара. Внезапно одна из колесниц остановилась у низкой стены, рядом с тем местом, где сидел Тутмос, и Аменхотеп радостно крикнул:
— Сегодня я хочу видеть рисунок, изображающий меня на Арене!
Он стащил шлем; влажные темные кудри прилипли к голове.
— Мы сделаем из этого рисунка барельеф!
Тутмос взял лист папируса и быстро встал.
— Конечно, ваше величество.
Он указал на высокие колонны Арены.
— Я нарисую, как ваши колесницы сверкают в лучах зимнего солнца. Видите? Свет, проходящий между колоннами, образует анк.
Все обернулись, и я впервые заметила неровные очертания анка на пыльной земле.
Аменхотеп ухватился за край своей колесницы.
— Вечная жизнь… — прошептал он.
— Отпечатавшаяся на песке. Золото колесниц, а за ними — пылающий анк жизни.
Я уставилась на Тутмоса, осознав вдруг, что в нем есть кое-что сверх лести и болтовни. Я снова посмотрела на символ вечной жизни, сотворенный игрой солнца и теней, и удивилась, почему я прежде его не замечала.
Тем вечером в Большом зале Тутмоса усадили за царский стол, и рядом с ним села Кийя со своим выводком придворных дам, выросших в комфорте гарема Старшего. Нефертити с Аменхотепом, довольные, наблюдали, как придворные носятся с их скульптором, который, чтобы служить им, просто перебрался во дворец.
Женщины хором упрашивали Тутмоса показать, что он нарисовал сегодня. Но Кийя была мрачна.
— Почему никто мне не сказал, что они отправляются на Арену?
— Было очень рано, госпожа, — успокоил ее Тутмос. — Вы бы замерзли.
— Я не боюсь небольшой прохлады! — огрызнулась она.
— Но тогда ваши щеки побледнели бы, а их цвет слишком чудесен. — Он внимательно оглядел Кийю. — Цвет самых насыщенных оттенков плодородной земли.
Кийя немного успокоилась.
— Ну так где же эти рисунки?
Пока мы ожидали слуг с едой, Тутмос достал листы папируса, которые я видела у Арены. Новым там был рисунок с изображением фараона, правящего могучими лошадьми, и проступающий за ним анк, знак жизни. Тутмос пустил рисунок по рукам, и даже визири — в том числе и мой отец — примолкли.
Кийя подняла взгляд.
— Очень хорошо нарисовано.
— Превосходно, — похвалил отец.
Тутмос склонил голову, и бусины в его парике мелодично зазвенели.
— Их величеств легко изображать.
— Я думаю, тут дело в вашем искусстве, — ответил отец, и на щеках Тутмоса проступил румянец.
— Эта работа мне в радость. А вчера его величество позволил мне брать и другие заказы.
На скульптора обрушился шквал заинтересованных вопросов, а Кийя величественно изрекла:
— Тогда я хочу заказать тебе изваяние — свое и первого сына Египта.
Последовала неловкая пауза. Отец взглянул на мать. Затем Тутмос тактично произнес:
— Всякий ребенок его величества будет изваян в камне.
— А ты? — спросила у меня мать. — Может, закажем твой портрет? Бюст или даже барельеф для твоей гробницы. Тебе следует начинать думать о том, какой тебя запомнят боги.
Тутмоса осыпали просьбами, и все говорили одновременно, даже визири. Посреди всей этой какофонии Тутмос заметил, что я молчу, и улыбнулся мне.
— Может, попозже, — ответила я матери. — Возможно, попозже мне захочется, чтобы меня нарисовали в прекрасном саду.
Придворные дамы порхали вокруг Тутмоса, как свежевылупившиеся бабочки вокруг цветка. Хотя Тутмос провел во дворце уже два месяца, к нему все еще относились словно к новому гостю: приглашали на все празднества и на прогулки по саду.
— Не знаю, чего они хлопочут, — сказала как-то утром Ипу, заплетая мне косу. — Непохоже, чтобы он интересовался женщинами.
Я непонимающе посмотрела на нее.
— Это в каком смысле?
Ипу взяла кувшинчик с благовониями и искоса взглянула на меня.
— Ему нравятся мужчины, госпожа.
Я застыла на краю кровати и попыталась осознать это.
— Тогда почему он так нравится всем этим женщинам?
Ипу принялась размашисто намазывать мне лицо ароматическим маслом.
— Возможно, потому, что он молод и красив и никто не сравнится с ним в мастерстве скульптора. Он похвалил мое мастерство, — самодовольно добавила она. — Он сказал, что слышал обо мне даже в Мемфисе.
— О тебе все слышали, — ответила я.
Ипу хихикнула.
— Все дамы хотят, чтобы он нарисовал их портрет. Даже Панахеси и тот заказал портрет.
В жаровне горел огонь. Погода испортилась, и все надели длинные одежды. Я прикорнула под теплым меховым плащом, размышляя над этим новым дополнением двора Аменхотепа.
— Ну, он ходит за Нефертити повсюду, куда бы та ни пошла, — отозвалась я. — Предлагает, где можно было бы высечь ее изображения. Наверняка сегодня утром он будет на Арене.
— Он что, ходит туда каждое утро?
Я вздохнула:
— Как и все мы.
Но сегодня утром мне не хотелось отправляться смотреть, как фараон будет ездить на колеснице. Я знала, каково там будет, когда визири, Панахеси и Кийя будут отпихивать друг друга, сражаясь за внимание Аменхотепа, и смотреть, как он ездит вместе с Нефертити, хотя она уже на пятом месяце беременности. Я знала, что ветер будет холодным и что, даже если слуги принесут нам подогретый шедех, я все равно буду мерзнуть. А мать будет молча переживать из-за того, что Нефертити ездит на колеснице — в ее-то положении, когда в ее чреве будущее Египта! — но никому не станет ничего говорить, даже отцу, потому что тот понимает, что таким образом Нефертити удерживает фараона подальше от Кийи.
— Готово.
Ипу отложила кисточку и сурьму. Но когда я вышла в коридор, ноги отказались нести меня в сторону внутреннего двора. Я решила, что, раз уж если мне суждено сегодня мерзнуть, лучше я буду мерзнуть в саду. Возможно, в суматохе про меня позабудут и никто не заметит, что я ушла.
Я уселась на скамью под старой акацией и услышала пронзительный голос Нефертити:
— Мутни! Мутни, ты там?
Я подобрала ноги под себя и не стала отвечать.
— Мутноджмет! — Голос сестры сделался еще более нетерпеливым. — Мутни!
Она обогнула пруд с лотосами и увидела меня.
— Что ты здесь делаешь? Мы отправляемся на Арену.
Нефертити остановилась рядом со мной; черные волосы касались лица.
— Я, пожалуй, останусь здесь.
Нефертити драматически повысила голос:
— И не увидишь, как мы будем ездить?
— Я устала. К тому же сегодня холодно.
— Здесь тоже холодно!
— Пускай поедет Ипу, — предложила я. — Или Мерит.
Нефертити заколебалась, выбирая, то ли спорить со мной и дальше, то ли махнуть рукой.
— Тутмос закончил бюсты, — сказала она наконец. Значит, она позволит мне остаться в саду. — Теперь он их раскрашивает.
Я спустила ноги со скамьи.
— А надолго ли он останется во дворце?
Нефертити как-то странно посмотрела на меня.
— Навсегда.
— Но что же он будет рисовать?
— Нас.
— Что, все время?
— Он может еще брать заказы у придворных. — Нефертити повернулась. — Видишь? — спросила она, встав так, чтобы мне был виден ее животик, выступающий над поясом из золотых скарабеев. — Он уже растет!
Я заколебалась.
— А если это девочка?
— Аменхотеп будет любить любого ребенка, которого рожу ему я! — пылко произнесла Нефертити.
Я нахмурилась. Я слишком хорошо знала свою сестру.
— В самом деле?
Нефертити сжала губы и прикусила их изнутри, как это часто делала и я.
— Если это будет девочка, то Кийя окажется матерью старшего царевича Египта.
— Но она — вторая жена. Если ты родишь фараону сына, даже если это случится в следующем году, фараоном все равно станет он.
Нефертити уставилась куда-то вдаль, за пруд, как будто могла отсюда разглядеть Фивы.
— Если у меня не будет мальчика, у Небнефера окажется предостаточно времени, чтобы заручиться поддержкой.
— Ему же всего четыре месяца!
— Ему не вечно будет четыре месяца. — Она подалась вперед. — Ты поможешь мне, ведь правда? Ты будешь со мной, когда подойдет срок. И будешь молиться богине, чтобы это был мальчик.
Я рассмеялась — и осеклась, увидев ее лицо.
— Но с чего вдруг богиня станет слушать меня?
— Потому что ты честная, — ответила Нефертити. — А я… я не такая, как ты.
Нефертити ходила по дворцу, держа руку на животе, и никто не смел даже заикнуться о четырехмесячном царевиче, которого Кийя кормила грудью в Большом зале, хотя все его видели. Царевич был очаровательным малышом, невзирая на то что мать его была кислой, как лимон. Аменхотеп то и дело поддерживал Нефертити, постоянно помогал ей взобраться на колесницу и даже на трон. Он трясся над ней и восхвалял растущего в ее чреве ребенка — и при этом полностью игнорировал уже рожденного.
В месяце мехире Аменхотеп объявил в официальных свитках и написал на общественных зданиях, что в Мемфисе господствует бог Атон. Повсюду разослали указания, повелевающие египтянам склониться перед жрецами Атона, как прежде они склонялись перед жрецами Амона.
Ибо Атон обнимает Египет. Он всемогущ.
Он — прекраснейший. Всезнающий и всеведающий.
Свиток не заканчивался словом «Амон». Такого еще не бывало в Египте — чтобы официальный свиток не заканчивался словом «Амон». Но отныне заканчиваться не будет — в Мемфисе.
Отец положил свиток на колени.
— Это богохульство, и Старший о нем узнает! Он будет очень недоволен.
Отец сердито посмотрел на мою сестру. Нефертити пожала плечами. Она не съежилась под отцовским взглядом, как сделала бы я на ее месте.
— Богохульство — это то, что считает богохульством фараон, — отозвалась она.
— Но твой муж не единственный фараон! — Отец встал и швырнул свиток в жаровню. — Старший все еще жив. И попомни мое слово, Нефертити: если твой муж не будет осторожен, не удивляйся, когда моя сестра подошлет к нему убийц.

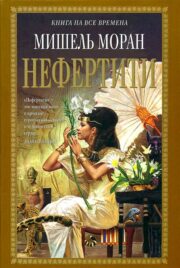
"Нефертити" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нефертити". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нефертити" друзьям в соцсетях.