Джон взбежал по ступенькам террасы. Мать уже ушла к себе, и только старый слуга Джордж терпеливо дожидался его.
— Мадам легла, — доложил он, — мсье разрешит закрыть ставни?
Джон, направляясь к себе, слышал, как он запирал дверь.
Мать легла, не дожидаясь его, не пожелав ему доброй ночи!
Ну что же, и пускай!
Озлобление снова вспыхнуло в нем. Он разделся, принял ванну и лег в постель.
Спальня матери была в конце коридора. Обе спальни выходили окнами на длинную галерею. Вокруг царила немая тишина.
Джон лежал в темноте и думал о положении, в котором очутился, так, как может думать человек, лишенный воображения, — банально и мелочно.
Итак, он рожден в незаконном сожительстве, он — человек без имени. Его обманывали все время — и теперь ему ничем не хотят возместить это.
Он лежал, кипя ненавистью и презрением к этому Вэнрайлю, осуждая его со страстной злобой.
У двери послышались какое-то царапанье, тихий визг. Джон поднялся как раз вовремя, чтобы увидеть, как его терьер пронесся, словно белая стрела, на галерею. Он встал и вышел туда же. Тони, очевидно, погнался за крысой на лужайку и исчез в тени, отбрасываемой деревьями. Пока Джон стоял и следил за ним, новый звук донесся до него. Он бесшумно направился в ту сторону и прислушался. Звуки доносились из комнаты матери. Это было заглушаемое рыдание.
Джон ни разу в жизни не видел мать плачущей. И эти едва слышные всхлипывания, прерывистые вздохи проникли в его сердце какой-то неизъяснимой отрадой. Но все же и это не помогало. Он оказался в унизительной роли мучителя, сознавал это — и не был в силах изменить что-нибудь.
Он постоял, прислушиваясь, а затем, движимый властным импульсом, вошел в спальню матери через высокое раскрытое окно. Окликнул ее. Она подняла с подушки залитое слезами, судорожно подергивавшееся лицо и протянула руки к Джону.
— Успокойся, мама, — сказал он, заикаясь и продолжая стоять в тени. — Я вел себя, как животное, по отношению к тебе. Теперь все прошло.
Ее голос прозвучал из серебряной дымки, сотканной лунным светом:
— Ах, Джон, если бы ты мог понять! Все то, что ты теперь думаешь… я предвидела это много лет назад. Я знала, что чужие люди так отнесутся… Но мне и в голову не приходило, что так же точно посмотришь и ты. Мое самое тяжкое наказание — в том, что ты мог… что ты так принял это.
— Да нет же… это тебе только кажется. Ты не поняла, — сказал Джон бессвязно.
Он ступил шаг, другой, пока не оказался совсем близко от матери. И так мать и сын, он — стоя у постели, она — откинувшись на подушки — смотрели друг другу в глаза несколько долгих мгновений.
— Нам бы следовало попытаться договориться до чего-нибудь, — устало промолвила, наконец, Ирэн. — О, я знаю, тебе кажется, что тут разговором ничего не изменить. Но тебе было сделано только очень краткое сообщение, — и думаю, следует объяснить тебе, как я смотрю на это. Видишь ли, Джон, мне думается, моя вина в том, что ты именно так реагировал на то, что узнал. Мне следовало давным-давно открыть тебе все — и представить в правильном освещении. А теперь — поздно. Так же, как ты судишь меня сейчас, ты будешь судить других женщин. А мне больше всего в жизни хотелось, чтобы ты был таким же рыцарем, как твой отец. Может быть, ты сейчас с презрением смеешься над тем, что я сказала. Я в темноте не вижу тебя хорошо, но чувствую, что ты как-то враждебно настроился, когда я заговорила о нем. О, Боже, Джон, неужели это выше твоего понимания, неужели ты не способен поверить в то, что мужчина и женщина могут согрешить — и все же оставаться чистыми? Я не собираюсь тебе внушать, что не существует законов морали, что каждый человек волен поступать так, как хочет. Но я твердо верю, что мы, грешники, вправе требовать, чтобы о нас судили по всей нашей жизни, а не по отдельным поступкам. Много лет назад, когда ты был совсем еще маленьким, мне казалось, что я знаю, как должна расплатиться за свое коротенькое счастье, — и я уплатила сполна, до последнего гроша. Женщине моего склада нелегко променять всю полноту, все движение и разнообразие жизни на затворничество, на роль милой, но скучной старой дамы, у которой только и радости, что возиться в своем саду. Но это было моей долей расплаты. А долей твоего отца было его изгнание и разлука со мной. Грех никогда не бывает прекрасен, но искупление его подымает любовь на сверкающую высоту и дает ей, мне кажется, право на существование. С того дня, как ты появился на свет, не было минуты, когда бы я не благодарила Бога за то, что моим искуплением будет жизнь для тебя. И я честно выполнила свой долг. Освобождение мое от уз брака, который не был настоящим союзом, потому что нас с тем человеком не связывала ни любовь, ни верность, ни взаимная поддержка и понимание, — это освобождение приходит как раз тогда, когда ты уже встал твердо на ноги, когда начинается твоя карьера, — и я хочу видеть в этом знак того, что мое искупление принято. Мне предстояло стать чем-то вроде принадлежности обстановки в твоем доме в Лондоне, не так ли? А ты думаешь, я не предвидела, что когда-нибудь эта принадлежность станет для тебя бременем, что ты захочешь жениться и ввести настоящую хозяйку в свой дом? Что было бы тогда со мной? О, Джон, милый, не мешай же мне теперь стать счастливой. Не заставляй снова и снова чувствовать стыд за себя, — не заставляй меня снова платить. Женщинам моего типа нелегко отрешиться от условностей. Нас может сделать счастливыми только любовь открытая, не прячущаяся от солнца. Мрак тайной любви полон горьких, мучительных переживаний. Поверь, необходимость грешить, когда презираешь грех, уже сама по себе гораздо более тяжкое наказание, чем изгнание из общества. Говорят, что любовь все оправдывает. Да, но раньше, чем оправдать, она распинает нас на кресте. Нет жертвы, которую не стоило бы принести за радость любви. Но только те, кто эту жертву приносит, знают, что это значит. Законы, условности — всем можно пренебречь ради любви; но жизнь заставляет платить за то, что нарушили их. Мы оскверняем то, что есть идеального в любви, — и страдаем от этого. Или не знаем, что такое настоящая любовь, — и профанируем ее, называя этими словами страсть. Мы можем любить и впадать в грех ради любви, но расплата страшна; из этой борьбы мы выхолим не только с израненными руками и ногами, но с испепеленной душой. Джон, надолго ли ты изгнал меня из своего сердца? Я признавала, что свет имеет право осуждать меня. Но мой сын?..
Она протянула руку к его руке, и при этом движении свет луны упал прямо на ее лицо, обрамленное заплетенными на ночь косами. Она казалась поразительно молодой, эта женщина, которой он, не задумываясь, со спокойной совестью, отвел место за пределами кипучих интересов жизни, ее живого трепета. Да, совсем молодой, прекрасной и нежной. А он хотел лишить ее любви, в душе отрицая ее право любить и быть любимой. Он заклеймил это словами — «нелепость», «неприличие».
Мать наклонилась еще больше вперед. Она улыбалась ему.
— Кажется, еще недавно ты был совсем малышом, — сказала она дрожащим голосом. — Не можешь ли ты снова стать на минуту тем прежним моим мальчиком и… помириться со мной, милый?
Джон пробормотал что-то невнятное, и когда она притянула к себе его голову, почувствовала вдруг на глазах у него слезы.
Глава II
Вокзал железной дороги — малоприятное место. Конечно, он может казаться прекрасным путешественнику, который мечтал о прибытии сюда, или наоборот, горит нетерпением уехать. Но когда вам предстоит сказать «прощай» человеку, которого любите, любой вокзал покажется гнуснейшим местом. Поезда, не имеющие к вам никакого отношения, пронзительно свистят всякий раз, когда вы пытаетесь сказать вслух что-нибудь значительное; а поезд, которому предстоит умчать того, кого вы провожаете, кажется, никогда не отойдет! Вы жаждете, чтобы этот момент, наконец, наступил, — и вместе с тем думаете о нем с тоской и ненавистью. Какая-то натянутость, тупое безразличие владеют вами и тем, кого вы провожаете. Все, что нужно было сказать, уже сказано — и при повторении звучит как-то нехорошо. А когда, наконец, поезд уходит — в мире вдруг сразу становится пусто.
Джон в конце концов все же остался и поехал провожать мать. Он не сказал ей истинной правды. Только туманно упомянул, что «надо еще позаботиться о целой куче вещей». Он стоял у двери вагона с беспечным видом и говорил о предстоящем празднике на озере, о том, как, должно быть, злится Тревор, которому пришлось дожидаться его в Шартрезе.
Они с Ирэн завтракали сегодня вместе, как всегда, и болтали о тысяче вещей, старательно избегая того, что интересовало обоих.
Для Джона это было настоящей пыткой. В нем все время боролись желание простить и глухое озлобление, а ничто так не разъедает душу, как подобного рода борьба.
Он то примирялся, чувствовал прежнюю нежность к матери, — то вдруг, снова ужаленный воспоминаниями, начинал бунтовать в душе. И напрасно взывал к своему чувству справедливости.
Он сознавал, что мысли и чувства, владеющие им, низки, что он играет возмутительную роль, но не мог ничего поделать с собой.
Немногие из нас настолько неэгоистичны, что способны простить от души. Большинство прощает только на словах и довольны собой, что смогли сделать хоть это.
Простить — это больше, чем понять. Это — суметь жить жизнью другого человека, вместе с его грехами, это — с искренней любовью и теплотой разделить его страдание. Простить — это значит не помнить. Прощение не уживается с воспоминанием. Одно должно вытеснить другое. И немногие из нас настолько великодушны, чтобы забыть, если это нужно ради успокоения другой души. А до тех пор, пока вы не забыли тех, кого вы, по вашим словам, простили, они будут продолжать чувствовать себя как перед судилищем.
Ничто не разделяет так людей (даже людей, связанных крепкой любовью), как прощение, которое помнит.
Какая-то напряженность, натянутость появилась в отношениях Джона и матери. Одна спрашивала себя с трагически бессильным удивлением: «Как может он быть таким?» Другой: «Как может она держать себя так, словно ничего не случилось?»
Оба украдкой поглядывали друг на друга и притворялись, что их интересует все происходящее вокруг.
Время шло. Оставалось только десять минут до отхода поезда.
Газетчица, пронзительным голосом предлагавшая прессу, остановилась у открытой двери вагона.
— Дайте, пожалуйста, «Нью-Йорк-Херальд», — сказала миссис Теннент. И Джона словно что-то ужалило в самое сердце.
Мать развернула газету.
— Твой отец, оказывается, избран в сенаторы на прошлой неделе, — заметила она очень спокойно, протягивая Джону страницу, на которой был помещен портрет мужчины. При этом она перевела глаза с фотографии на черты сына, словно сравнивая обоих. У старшего было красивое, несколько суровое лицо, прямой и пронзительный взгляд.
И тень той же неумолимой жестокости сквозила в узком загорелом лице Джона, в его светло-голубых глазах с выражением какого-то почти дерзкого хладнокровия.
«Он несравненно красивее, чем его отец был в молодости», — подумала Ирэн. Кое-что сын получил и от нее. Он был высок ростом, как все в ее роду, изящно сложен и белокур, как настоящий саксонец.
Незаметно любуясь им, мать подумала, что никакая любовь к другому, ничто в мире не вытеснит его из ее мыслей, никакое счастье не заставит забыть о том, что он несчастлив, никогда уважение других людей не вознаградит за его осуждение.
Для нее Джон оставался все тем же ее малышом, существом, которому она необходима, чьи выходки, даже когда больно ранят, не могут не забавлять немножко и вызывают у матери умиление. Она посмотрела на него сквозь набегавшие на глаза слезы. А Джон украдкой поглядывал на часы. Неловкость положения становилась ему нестерпима. Хотелось, чтобы поскорее прошли последние минуты.
— Когда же ты снова приедешь в Европу? — спросил он.
— Я думаю, сначала следует тебе приехать к нам в гости, — возразила мать.
— Да, пожалуй, так будет правильнее, — согласился Джон, но тон у него был отрывистый и неискренний. — Не знаю только, когда именно. Я не засижусь долго в Шартрезе. Чип, вероятно, уже придумал для нас какую-нибудь экскурсию в горы. А потом, полагаю, мы с ним вместе поедем прямо в Лондон. Я решил: не возьму тот дом на Понт-стрит. Сниму себе комнаты или квартиру. Ужасно мило с твоей стороны, что ты мне оставляешь Люси.
Это обсуждение деталей будущего устройства было крайне неприятно обоим, но лучше было бы говорить о чем угодно, только не о предстоящем через минуту расставании.
Раздались крики кондукторов: «Отправляемся!»
Джон вошел в купе матери и обнял ее. Страшно хотелось сказать ей на прощание что-нибудь приятное, но слова вдруг словно превратились в свинец и не могли отделиться от губ.

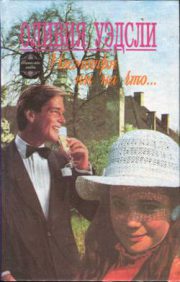
"Несмотря ни на что" отзывы
Отзывы читателей о книге "Несмотря ни на что". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Несмотря ни на что" друзьям в соцсетях.