Наивность этой девочки была сильно поколеблена, когда в ее жизни произошла жуткая перемена и она стала свидетельницей убийств и изнасилований, совершенных захватчиками в ее деревне. Пока ее не коснулось физическое насилие, и дедушка с горечью предупреждал о возможных жестоких посягательствах со стороны людей, так глубоко разочаровавших его. Ведь они принадлежали к великой английской расе, которую он почитал так сильно. И вот теперь великая кровь, смешавшись с другой кровью в его внучке, громко взывала к Небесам об отмщении.
— Защищайся зубами и ногтями, борись за свою честь, внученька, — молил он перед кончиной. — И может быть, тогда Бог твоего отца и твоей матери разрешит тебе отомстить за меня и мой народ.
На старой Библии миссионера и древней статуэтке одного из богов дедушки — ибо он так до конца и не принял христианства — девочка поклялась отомстить.
Теперь она инстинктивно остерегалась всех белых людей с их когтистыми лапами и нелепым поведением, особенно после того, как они напивались огненной воды, которую сами же и изготовляли.
Пока за ней присматривал первый помощник капитана О’Салливан, не было причин для беспокойства. Бородатый гигант вел себя достаточно мягко, если не считать двух случаев, когда он отшлепал Фауну, укусившую его за руку. Впрочем, кусалась она исключительно от страха — как дикий зверек, впервые попавший в неволю.
Честно выполняя приказ капитана, О’Салливан хорошо кормил ее, угощал конфетами из своего рундука — разноцветными и несказанно вкусными французскими леденцами, каких она никогда раньше не пробовала. Леденцы приводили девочку в восторг. Она с жадностью поглощала их один за другим, вызывая громкий хохот ирландца.
— Клянусь Богом, маленькая шалунья знает, чего хочет! — восклицал он при этом.
О’Салливан больше не бил ее, и она поняла, что просто-напросто надо быть послушной, и тогда ее не тронут. По-видимому, человеку, которого О’Салливан называл «капитан», не очень нравилось доброе обращение с ней. Его единственный горящий глаз таращился на нее с презрением и злостью. Но с тех пор, как они отплыли из Вест-Индии, он заходил взглянуть на нее всего несколько раз, потом бородач зачернил ее лицо и с головы до ног закутал так, что ни одна живая душа не смогла бы разглядеть ее тела. Она радовалась, что ей больше не надо стыдливо опасаться своей наготы, как тогда, когда ее в первый раз раздевали и мыли.
Большую часть путешествия Фауна провела лежа ничком, страдая от морской болезни и жалости к себе. Сразу по их отплытии с Ямайки начался ливень и загремел шторм. До этого в душном, грязном трюме корабля она чуть не умерла. Ей пришлось видеть, как труп дедушки без всяких церемоний швырнули в темные синие волны. Теперь всю дорогу от Ямайки до Бристоля она мучилась в своей одиночной тюрьме. Несмотря на то, что по сравнению с адом внизу ее нынешнее заточение могло показаться настоящей роскошью, все же это была тюрьма. Девочка страдала и томилась, и даже когда морская болезнь почти совсем прошла и она смогла принимать пищу, хорошая еда не прибавила плоти к ее хрупким косточкам. Ее личико все больше заострялось и бледнело от недостатка воздуха и движения. Девочке не хватало солнечного света, свободы, которой она пользовалась прежде, воздуха, насыщенного запахом мускуса, красного жасмина и финиковых пальм, голубого неба и невинных забав людей дедушкиного племени. Ночами она спала плохо, лежа в душной каюте О’Салливана на груде жестких тюфяков. Ей пришлось подолгу слушать устрашающий храп бородача, почти всегда падавшего в кровать мертвецки пьяным, не способным даже взглянуть на нее или вымолвить слово. И еще ее постоянно мучил страх оказаться за иллюминатором.
Ближе к Бристолю Фауна снова вся чесалась, измученная назойливыми вшами. Иногда ее трясла лихорадка. Особенно с тех пор, как «Мореход» вошел в родные воды и жара сменилась холодом и дождем — в тот год по всей Англии лето стояло очень влажное. Однажды утром О’Салливан дал ей воды, мыло и полотенце и приказал помыться, но на сей раз делать все самой. Ей показалось очень забавным стирать с лица черные потеки, видя себя при этом в треснувшем зеркале, висящем на стене каюты. Какое облегчение — избавиться от вшей и грязи! Ее волосы преобразились и шелковистыми локонами ниспадали на плечи. Несчастная девочка, смутно ощутив свою женственность, внезапно оробела, застыдилась своей наготы. Она тут же схватила с койки первого помощника стеганое одеяло и завернулась в него, чтобы прикрыть свое детское тело, еще не сформировавшуюся грудь и руки. Подвязав один край одеяла вокруг талии, как туземный саронг, она второй край перекинула через плечо. Фауна видела, как это делала третья дедушкина жена, манипулируя несколькими ярдами хлопчатобумажной ткани. Бедняжка Нуну! В последний раз Фауна видела ее, когда она пыталась убежать от ее работорговцев. Дедушка сказал, что они убили Нуну, и больше ни разу не упоминал ее имени.
И вот сейчас Фауна пристально вглядывалась в иллюминатор и, дрожа от страха, спрашивала себя, какая судьба уготована ей в столь необычном месте — Англии. О’Салливан, когда бывал трезв и в хорошем расположении духа, рассказывал ей о Лондоне, о жизни в этой богатой и веселой английской столице. Однако раз или два с его губ слетели зловещие предостережения, не выходившие у девочки из головы. Ей навсегда запомнилось слово «рабыня». Она должна научиться повиновению, ибо ее продадут, как рабыню, говорил он.
— Святая Дева Мария да защитит тебя, и да простит наш Господь Иисус Христос мою бессмертную душу за то, что я участвую в этой истории, но тебя должны продать, дорогая моя, — вздохнул он как-то вечером. — Ты прибудешь в Англию на работорговом судне, и ты — рабыня, дорогая девочка. Черная рабыня, хотя ты и белая, если ты понимаешь, о чем я говорю…
Фауна не понимала всего этого. И не пыталась понять. Однако она прекрасно знала, что значит быть рабыней. Она достаточно натерпелась за последнее время. Неужели ее снова закуют в цепи, как дедушку, заставят голодать и будут избивать, пока она не умрет? Фауна снова задрожала — сегодня уже не в первый раз она ощутила холодный влажный воздух на своей обнаженной коже. Серое угрюмое небо и прохлада угнетали девочку, привыкшую к жаркой солнечной стране, стране ее рождения.
Она отвернулась от иллюминатора и грустно оглядела каюту. Приходилось радоваться хотя бы тому, что не чувствовалось качки. Этим утром море было почти спокойно. Фауна немало настрадалась от шторма, ревущего, стонущего, швырявшего корабль из стороны в сторону, когда «Мореход» находился в открытом море.
Каюта выглядела грязной и неопрятной. На столе стояла выщербленная чашка с молоком, которую заботливый О’Салливан принес рано утром. В молоке плавала муха. Фауна с угрюмым видом подцепила муху пальчиком, вытащила и смахнула на пол, где и оставила умирать во влажной грязи. Затем без всякого отвращения стала пить молоко, лакая его, как котенок. Еще О’Салливан принес корабельных галет, масло и фрукты. Масло прогоркло, и Фауна отодвинула его, однако фрукты съела с удовольствием.
Внезапно ее внимание привлек пронзительный женский крик. Она подбежала к иллюминатору. На пристани затеяли драку две торговки рыбой, крепкие, загорелые молодые женщины в полосатых юбках и вязаных кофтах. За поединком наблюдал высокий босой улыбающийся парень в синих штанах, полосатой рубашке и темной соломенной шляпе, надетой по-моряцки, набекрень. Он расхохотался, когда одна из женщин ударом повалила противницу на землю, оседлала ее, вцепилась ногтями в кофту и разорвала так, что обнажилась грудь. Моряк хохотал все громче. Собралась толпа, и теперь клубок из женских тел исчез из поля зрения Фауны. Увиденное испугало и удивило ее в одно и то же время, показалось до предела отвратительным. А еще ей подумалось, что светловолосый загорелый моряк, наблюдавший за дракой, намного красивее мистера О’Салливана с его бородищей и диким храпом, так мешающим уснуть. И уж, конечно же, этот веселый парень намного симпатичнее зловещего одноглазого капитана.
Фауна еще не сознавала, что впервые в жизни судит о мужчине по его внешности, что ее впервые заинтриговал сам вид смеющегося молодого красавца.
Она все пристальнее всматривалась в набережную, надеясь еще раз увидеть парня. Но драка уже закончилась, толпа разошлась, и моряк исчез. Победительницу поздравляли друзья, а побежденная, всхлипывая и вытирая кровоточащий нос одной рукой, другой пыталась удержать на плечах порванную кофту.
Это зрелище смутило Фауну. Но потом произошло нечто еще более впечатляющее. На пристань въехал желто-синий двухколесный экипаж с парой гнедых лошадей. Искусный кучер подогнал коляску к «Мореходу» и остановил ее так, что Фауне все было прекрасно видно. Из экипажа вышел какой-то джентльмен, предварительно поцеловав руку сидящей внутри леди. Джентльмен приблизился к сходням, ведущим на судно. Однако теперь девочку интересовал не столько экипаж, сколько находившаяся в нем молодая леди. Фауна зачарованно смотрела на нее, ведь это была первая светская дама, встретившаяся ей в жизни. Девочка вытаращила глаза от изумления, заметив элегантную шляпку с загнутыми вверх полями и лентой под подбородком. Она пристально разглядывала напудренные локоны, рассыпанные по плечам знатной леди, ее красивую бархатную накидку — как и шляпка, вишневого цвета. Лицо дамы разглядеть не удалось, но при виде ее нарядной дорогой одежды кровь ударила в головку Фауны. Это зрелище ее опьянило. Она засуетилась и инстинктивно бросилась к треснувшему зеркалу О’Салливана. О, если бы она, став взрослой, смогла одеваться, как эта леди, и разъезжать в красивом экипаже! О, какое это было бы счастье!
На гвозде в углу каюты висела старая бобровая шляпа О’Салливана, которую он надевал, когда спускался на берег не в форме. Девочка сняла ее и лихо, набекрень нацепила на голову. Затем при помощи обрывка веревки подвязала сзади волосы, рассыпав их по обнаженному плечику. Улыбаясь своему отражению в зеркале, она грациозно протянула руку, как это делала леди из экипажа.
Не имея о том представления, девочка обладала природными задатками актрисы — прежде всего восхитительной мимикой. Она ни на минуту не оставалась равнодушной к своему ужасному положению на работорговом судне, но естественная живость и жажда радости побеждали ее горе. Еще совсем ребенок, она могла одновременно смеяться и плакать.
В это мгновение дверь каюты открылась и вошли трое мужчин. Все они были высокого роста и показались Фауне какими-то чудовищами, неожиданно ворвавшимися в ее жизнь.
Двоих она знала — капитана Хамблби и мистера О’Салливана. Третий был незнаком — красивый мужчина в сером костюме, державший в одной руке шляпу и трость, а в другой — кожаный портфель. Это был тот самый джентльмен, которого она видела выходящим из желто-синего экипажа.
Она смутилась оттого, что ее застали в шляпе мистера О’Салливана, и застыла, словно статуэтка, глядя на вошедших своими прекрасными глазами.
И они пристально разглядывали ее. Губы О’Салливана изогнулись в улыбке.
— Бог ты мой, что тут происходит? — пробормотал он. — Нахальная маленькая шалунья!
Капитан лукаво повел в сторону работодателя своим единственным глазом.
— Вот то, что вам нужно, мистер Панджоу. Эта девчонка, сэр. Можно сказать, единственная в своем роде… не правда ли, сэр?
Мистер Панджоу положил на грязный стол шляпу, трость и портфель, из огромного кармана визитки[7] извлек носовой платок с кружевами и приложил к носу. Его бледное надменное лицо брезгливо сморщилось.
— Фу, как здесь воняет, капитан Хамблби! Как воняет!
Единственный глаз капитана воззрился на первого помощника. О’Салливан побагровел и, запинаясь, стал оправдываться:
— Девочка была заперта здесь, выходить ей не разрешалось, сэр, а если природа требует, то, мистер Панджоу…
— Хватит! — оборвал его мистер Панджоу. — Умоляю, откройте иллюминатор! Животные! — добавил он вполголоса. Однако, когда судовладелец рассмотрел как следует стоящую перед ним девочку в бобровой шляпе, залихватски сидящей на светловолосой головке, оценил ее красоту, длину ресниц, нежность светлой кожи, стало очевидно, что он не зря поднимался на борт «Морехода». Девочка стоила намного больше, чем представлялось капитану.
Мистер О’Салливан открыл иллюминатор. Ноздри Фауны затрепетали, когда острый запах соленого морского воздуха ворвался в затхлую, ставшую для нее привычной атмосферу каюты.
Фауна резко сорвала с головы шляпу, избегая встречаться взглядом с мужчинами. Она запуталась в саронге и неизбежно упала бы, не подхвати ее мистер Панджоу. Его длинные тонкие пальцы с острыми наманикюренными ногтями вцепились в запястье девочки, как клещи. Судовладелец затряс ее так, что у нее застучали зубы.
— Стой! Посмотри на меня! Развяжи волосы. Сними с себя эту тряпку! А теперь спой. Эти джентльмены сказали мне, что ты знаешь африканские песни. Давай-ка, я послушаю их!

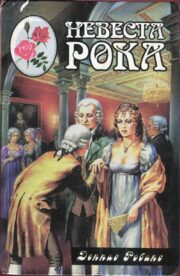
"Невеста рока. Книга первая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Невеста рока. Книга первая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Невеста рока. Книга первая" друзьям в соцсетях.