Кошелев очень долго ходил вокруг да около, предлагая гордой девушке с колоссальным чувством собственного достоинства свою дружбу, руку, сердце. Но Люда оставалась холодна как лёд, несмотря на всю привлекательность Гени.
Два месяца бился Кошелев, подкатывал к Людке и так и сяк. Чего он только не делал, дабы завоевать её расположение – цветы дарил, в кино приглашал (в театр тоже), провожал её до дома, однажды даже серенаду ей спел, стоя под балконом, но всё бесполезно. Тогда Геня не выдержал – пошёл на крайнюю меру: затолкал девицу ночью в вагон пустого поезда и взял её силой. Людка отбивалась поначалу, как могла, потом успокоилась, а на следующий день перебралась с вещичками в квартиру Гавриловых-Кошелевых.
Только любовь к Юрке Метёлкину не позволила Авроре в полной мере осознать весь тот ад, который наступил дома с появлением Люды.
Самохина была девушкой яркой, хорошо одевалась, поскольку её старшая сестра работала в «Берёзке», сильно красилась и отличалась вредным, взрывным характером. Теперь день в семье Гавриловых-Кошелевых начинался в полчетвёртого утра. Людочка бесцеремонно входила в большую комнату, где спали глубоким предрассветным сном Зинаида Матвеевна и Аврора, включала свет, с грохотом вываливала косметику из сумочки на трюмо и, громко фальшивя, пела «А я иду, шагаю по Москве». Штукатурилась девица ровно два часа, не давая спать Авроре и ее матери. Затем натягивала на себя дамские причиндалы: жёсткий, утягивающий корсет, французские панталоны и т.д. и т.п. Как потом оказалось, именно посредством всех этих утяжек Людка приобретала почти идеальную фигуру. Впрочем, и своё лицо она создавала с помощью умело наложенной косметики.
Готовить Самохина не умела – более того, она вообще не заходила на кухню. Придя с работы, она только и делала, что истошно орала на весь дом – то на Аврору, то по телефону, а когда приходил Геня, доставалось и ему. Зинаиде Матвеевне удавалось избегать гнева потенциальной невестки двумя действенными способами – лестью и молчанием. Льстила Гаврилова безбожно, называя Людку красавицей, умницей, доченькой:
– Ох! Людмила! С такими внешними данными тебе не в метро работать нужно, в актрисы идти. На широкий экран!
Геня снова заблуждался, но обманываться на сей раз был рад. Если Леночка хитрила, скрывая свои кривые ноги под юбками «макси», то до настоящей Людмилы – до той, какова она на самом деле, можно было добраться лишь глубокой ночью, при тусклом лунном освещении. Но однажды...
Это была настоящая сенсация!
Людка, вылив в воду полтюбика яичного Аврориного шампуня, принимала, наслаждаясь, ванну. Она любовалась своими нижними конечностями, поднимая из воды то одну ногу, то другую, плескалась, весело хохоча, ударяя широкой ладонью по пенной горке, она ощущала себя в тот момент настоящей голливудской кинозвездой, принимающей ванну в огромном двухэтажном доме, купленном на гонорары от сыгранных ролей. Но вода быстро остывала, равно как испарялось наваждение о доме, актёрстве и бешеных гонорарах.
– Арка! Арка! – громоподобно завопила она. – Арка! Иди мне спину потри!
Аврора зашла в ванную, взглянула на запотевшее зеркало – ей было стыдно и неловко смотреть на обнажённую Самохину.
– Ну что встала-то, как истукан?! Бери мочалку, намыль – давай, давай, а то у меня, кажется, прыщи по спине пошли! – И Людка встала из воды, пена выплеснулась и потекла на пол, а Аврориному взору открылось нечто, что лучше б навсегда осталось скрытым за всевозможными корсетами. Тело двадцатитрёхлетней девушки было дряблое, рыхлое, изношенное; кожа напоминала апельсинную пупырчатую корку. А лицо! Что это было за лицо! Аврора никогда не видела предполагаемую золовку без макияжа. Большой пористый нос картошкой выделялся под маленькими, незначительными глазками. Рот ниточкой тянулся от одного уха к другому (без преувеличения). И тут нашей героине стало ясно, почему Людка по два часа сидит перед зеркалом. Она рисует себе лицо, умело скрывая огромный нос, выделяя и укорачивая тонкие, длинные губы, и малюет глаза на том месте, где их лишь наметила матушка-природа!
Но влюблённый до одури Геня не замечал недостатков своей избранницы – он во всём шёл у неё на поводу. Странно, но факт, Кошелеву нравились девушки, которым не слишком-то нравился он – те, что спокойно относились к его мужским достоинствам (будь то лицо Жана Маре или тело «Лефонида Жаботинского»). Иначе говоря, Геня с ума сходил по тем девицам, у которых сам он не пользовался успехом. Ещё одним непременным условием, дабы понравиться Аврориному брату, являлись, пожалуй, несусветная стервозность и скандальный характер дамы.
Людмила прожила в Аврориной семье ровно четыре с половиной месяца – с сентября по середину января. Всё это время при каждой ругани с Геней девица кричала базарно, напоминая:
– Мерзавец! И что я с тобой только живу?! Насильник! Я бы могла на тебя тогда в милицию заявить – сейчас бы сидел! Дура! И почему я этого не сделала?!
– Лютик! Ну что ты такое говоришь? Я ведь тебя люблю! И взял тебя по обоюдному нашему с тобой согласию! Вот чо ты врёшь? – И Кошелев, хитро ухмыляясь, с нескрываемым обожанием смотрел на Лютика.
– Ага! Как бы не так! – вопила Самохина, переходя на ненормативную лексику.
В конце ноября она обвинила Кошелева в том, что тот сделал её беременной, оттого и глубоко несчастной. Геня, будучи на седьмом небе от счастья, потащил её в загс.
Но в середине декабря Людмила сделала аборт, а спустя месяц собрала свои вещички и ушла от Гавриловых-Кошелевых навсегда, пока Геня был на работе. Так что восемнадцатилетие Авроры, к её огромной и нескрываемой радости, отмечали без капризной девицы с крутым характером.
В целях конспирации Юрик на день рождения любимой не явился – он поздравил её рано утром перед учёбой, подарив ромбовидные серьги из золота.
– Юр, да ты что?! Они ж бешеных денег стоят! – испугалась Аврора и поначалу даже попыталась отказаться от подарка.
– Знаешь, Басенка, уж кто-кто, а я могу себе позволить подарить своей любимой девушке на день рождения такие фитюльки! Так что бери!
Наша героиня взяла серьги, расцеловала Ме– тёлкина.
В сущности, восемнадцатилетие Авроры (как это зачастую случается) явилось праздником для всех, кроме неё самой. Из числа знакомых и друзей именинницы была приглашена лишь Тамара Кравкина, которая в коридоре поздравила подругу, протянув ей два метра серого ситчика в белую непритязательную полоску, села за стол и весь вечер потела и краснела под пристальными, дерзкими взглядами Гени.
Любаша пришла вместе с родителями (Иваном Матвеевичем и мамашей-химичкой) и, торжественно вручив кузине позолоченное серебряное кольцо с нежно-голубым, водянистым сапфиром, принялась рассказывать о своём скором замужестве со Славиком – мол, а куда он теперь денется, если я беременна! Сразу надо отметить, что кольцо с сапфиром Любашка через некоторое время забрала обратно. Будучи на сносях, она заявилась к Авроре – так, проведать, повидаться и поболтать о своём, о женском. Болтая о нелёгкой доле слабого пола в этом мире, Любашка, переваливаясь, ходила по комнате, беспокойно стреляя глазами по полкам серванта. И наконец она нашла то, что так долго искала – то, ради чего, собственно, и притащилась к кузине на девятом месяце беременности. Сапфир блестел, притягивая к себе взгляд бывшей хозяйки, переливался всеми восемью гранями в хрустальной вазочке на ножке – так, что сама конфетница казалась бледно-голубой.
– Ой! Арка! Откуда у тебя моё кольцо? Ну надо же, а я всюду его ищу! Думала, потеряла! Как хорошо, что оно у тебя! Вот вечно так – дам кому чего поносить и забываю! – И Любашка хвать подарок из вазочки. – Засиделась я что-то, пойду, а то Славка волноваться станет, – и была такова.
Но это в будущем – сейчас Любаша пыжилась от гордости за свой подарок, Аврора же чувствовала себя настоящей богачкой. «Теперь у меня целый комплект! Серьги и кольцо!» – восторженно думала она.
Что касается Галины Тимофеевны и Ивана Матвеевича, то они прикрылись этим самым кольцом и, довольные, заняли свои места за столом.
Гордость семьи – художница-плакатистка Милочка подарила фиалку в горшке и пожелала имениннице слушаться мать и не баловаться спиртным.
Зинаида Матвеевна «отвалила» дочери шерстяную коротенькую юбку цвета прелой вишни (Гаврилова наконец-то распрощалась с единственным выходным платьем и, купив себе новое – насыщенного коричневого цвета с отложным воротничком, отдала старое в ателье и заплатила немалые деньги, чтоб из него сшили юбку ко дню рождения дочери).
Геня презентовал сестре карманный географический атлас – к чему, непонятно.
Дядя Вася подарил племяннице, тоже не совсем ясно для чего, высокие (выше колен) валенки – он любил дарить по любому поводу платки и валенки.
– На случай холодов! – довольно крякнув, сказал он, протягивая Авроре зимнюю обувку наших предков.
– Вот, Вась, я Арочке конфет купила, – робко встряла Полина – несчастная жена Василия Матвеевича, которую сегодня он соблаговолил взять с собой в гости, чувствуя себя обязанным ей за своё скорое выздоровление. Именно она, его Поленька, всегда оставалась с ним в тяжёлые моменты жизни, ухаживая, как за ребёнком. На сей раз она спасла супруга от осложнения после воспаления лёгких, отпаивая его молоком со смальцем. Семейство Павла Матвеевича (того самого неудачника, что безвинно отсидел восемнадцать лет в лагерях) прийти не смогло – всех их наповал свалил грипп.
Катерина Матвеевна появилась одна, без своего обожаемого Дергачёва – она как-то сразу, с порога принялась жаловаться на свою жизнь, на Лёню, который её совсем «не люблит», на детей, которые ни во что её не ставят, и в результате, так ничего и не подарив племяннице, уселась за стол, утирая слёзы, и потребовала по обыкновению вина.
Всё было, как всегда. Сначала все по очереди произносили тосты за именинницу, желали ей всего, чего только можно пожелать. Потом как-то незаметно разделились на группы. Василий изливал душу Зинаиде Матвеевне. Полина сидела молча. Геня рассказывал Милочке о своей работе в метрополитене – та, в свою очередь, завела речь о важной роли соцреализма в современном искусстве.
Иван Матвеевич уже выпил пять стопок, потёр руки, будто раздумывая – начинать или пока рановато. «Самое время!» – наверное, решил он и захлюпал.
– Ванечка, перестань. Мы ведь в гостях. Не порть Авроре праздник, – увещевала его жена.
– А я и не порчу! Я не порчу! Я только знать хочу! – закаркал Иван. – Вот взять меня – простого русского солдата! Я всю войну прошёл! А до Берлина не дошёл! Почему? Почему не я сорвал с Рейхстага поганое фашистское знамя? Я вас спрашиваю! – Захлёбываясь слезами, Иван Матвеевич налил себе стопку и, опустошив её, вдруг сардонически засмеялся.
– Ваня, прекрати! Хватит пить!
– А что, я разве пью? Да хоть и пью! Мне что, нельзя? Авророчка, вот ты скажи, нельзя разве простому русскому солдату, который так и не добрался до Рейхстага... – тут он горько всхлипнул, – выпить рюмашку-другую?
– Да можно, почему нет. Только ты, дядь Вань, не дерись, – попросила его племянница.
– Что ты, Арочка! Что ты, деточка! Дядя Ваня сегодня не будет сердиться – дядя Ваня сегодня будет веселиться в твою честь! – прокаркал он и со страстью, с нескрываемой патетикой запел свою любимую песню, деря глотку: – Др-р-рались по-гер-ройски, по-рррусски два друга в пехоте морской. Один пар-р-ень бы-ыл калужский, дррругой паренёк – костромской...
– Слушай, Зинаид! Вот терпеть этого не могу! Как начнёт одно и то же, одно и то же! Сил никаких нет! Зин! Ну честно, я ему щас по морде дам! Он у меня допоётся! – вне себя от злости воскликнул Василий. Но младший брат не слышал его – он уже дошёл до того кульминационного момента, когда два друга ударяли в штыки, а смерть сама отступала куда-то...
– А ну его! – махнула Зинаида Матвеевна на Ивана, как на человека, от которого уж нечего ждать в этой жизни ничего путёвого. – Не надо, Васенька! Ты ж его знаешь! Сейчас заведётся, психанёт...
– Психанёт он! А я вот забыл, чо тебе говорил! О чём я рассказывал-то?
– Зинк! Почему ты мне вина не наливаешь? Жауко? Это для родной-то сестры жауко?! – взъелась Катерина, которая уже опустошила стоящую рядом с ней бутылку красного креплёного вина и никак не могла дотянуться до той, что стояла в непосредственной близости от Зинаиды Матвеевны.
Начиналась та промежуточная часть вечера, когда все тосты и пожелания исчерпаны, а морды бить ещё рано, поскольку присутствующие не выпили всего, что было на столе, и не дошли до нужной кондиции.
Поскольку Дергачёва рядом не было, то Катерина принялась выяснять отношения с сестрой:
– Не люблишь ты меня, Зинк! Я всегда это знала! Ты больше Антонину любила! А я так – ни то ни сё. Сбоку припёку! Не пришей кобыле хвост!
– Да что ты такое говоришь-то, Кать!
– Не трогайте мою маму! Её нет с нами, и нечего обливать грязью её светлое имя! – истерично взревела Милочка.

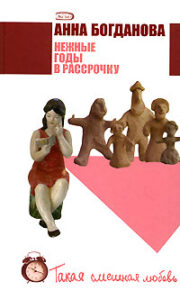
"Нежные годы в рассрочку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Нежные годы в рассрочку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нежные годы в рассрочку" друзьям в соцсетях.