Люси сказала, что, если бы Айрин Сауэрби так уж хотелось повидать Эдварда, она могла бы в любое воскресенье прийти к Бассартам, когда они там бывают. Так-то оно так, ответил Рой, но ему кажется, что тетя Айрин думает, будто они сердятся на нее так же, как на Джулиана, за то, что она была против их брака. Она ведь не знала истинной причины их размолвки с Джулианом, а они не могли сказать правду ни ей, ни остальным родственникам. Конечно, ужасно думать, что тетя Айрин и не подозревает о том, что собой представляет ее супруг, но у них хватает и своих забот, и Рой считает, что им нечего лезть в чужие дела. А кроме того, наверное, для нее же лучше, что она ничего не знает. Но, собственно, дело не в этом. А в том, что тетя Айрин уверена, будто они сердятся именно на нее…
Тут Люси прервала его и сообщила, что миссис Сауэрби не так уж далека от истины.
Как? Неужели они все еще сердятся на тетю Айрин? В самом деле? До сих пор?
Но Люси продолжала: ей известно, что мать нашептывает Рою по воскресеньям. Так, может быть, в следующий раз он воспользуется случаем и шепнет ей, а подумала ли ее сестра Айрин об Эдди, по которому она, видите ли, так скучает, когда ее муж подбивал Роя на развод?
— Ну, а зачем?
А затем, что неужели Рой до сих пор не понял, как планы Джулиана опасны для Эдварда, как они могут омрачить его детство? Возможно, Рой тоже думает, что семьей можно пожертвовать ради собственных эгоистических интересов?
— Ясное дело, нет. Слушай, к чему же так обижать?
Люси не терпела притворства и поэтому изо всех сил старалась поверить, что Рой не притворяется, что он действительно верит в свои слова, но даже и так ее воротило от его разглагольствований.
После обеда у Бассартов Эдди везли к папе Уиллу. Сначала прабабушка кормила его печеньем, приготовленным специально к его приезду, затем прадедушка показывал фокусы, которыми, по его словам, он обычно развлекал маму Эдварда, когда та была маленькой девочкой. Он просил Эдди закрыть глаза, а сам оборачивал носовым платком руку и два пальца, которые должны были изображать уши.
Больше всего Эдвард любил забраться на табурет рядом с бабушкой Майрой, когда она что-нибудь подбирала для него, или сесть прямо ей на колени и «играть» самому. Она нажимала клавиши его пальцами, и из пианино с запинкой вылетали звуки знакомых песенок — «Братца Жака», «У Мэри был ягненок» и «Майкла Финнегана», недавно разученного им с папой Уиллом. Каждый раз Эдди, бабушка Майра и папа Уилл пели хором, в то время как прабабушка сидела с тарелкой печенья на коленях, а Рой, растянувшись в кресле, коротал время, постукивая носком одного ботинка о носок другого.
И потом все снова, а Люси молча смотрела на них. Вот эти самые песенки, говорила бабушка Майра, обычно любила петь мама Эдварда, когда еще была маленькой — не старше его. Люси видела, что сын не может себе этого представить. Мама была маленькой? Эдди не мог поверить в это, так же как и она сама.
Затем следовала знаменитая история о том, как Люси «плыгала» с подоконника в столовой, чего она тоже не помнила, Когда папа Уилл впервые предложил Эдди заняться этим, бабушка Майра скрылась в ванной и не выходила, пока они не уехали.
С тех пор как исчез ее муж, Майра стала выглядеть на свои годы, а то и постарше. Иногда ей можно было даже дать не сорок с небольшим, а все шестьдесят. К уголкам рта сбегали глубокие складки, под глазами проступали синяки, а красивая шея казалась морщинистой и дряблой. И вся она заметно сдала, огрубела, потускнела, хотя это и не затрагивало ее хрупкого очарования. Те, кто ее хорошо знал, конечно, понимали, что внешняя мягкость и деликатность не случайны, а отражают ее подлинную натуру. Шли годы, она старела, и теперь даже ее дочь вряд ли помнила, что в замужестве Майра Нельсон страдала в основном из-за того, что всегда была папенькиной дочкой. Сидя в гостиной и молча наблюдая — чего она не могла себе позволить раньше, когда вокруг бушевали битвы и сама она бушевала, — Люси постепенно начинала понимать, что у ее стареющей матери есть характер. Нет, она не укладывается целиком в привычные словечки — «слабая», «беспомощная»… До Люси начало доходить: не потому мать казалась такой податливой, а рот ее таким добрым и глаза такими всепрощающими, что она от роду была красивой и безответной.
Шло время, и по воскресеньям в гостиной у Кэрролов стали появляться мужчины.
В то лето, когда Эдди пошел четвертый год, постоянным гостем в доме Кэрролов стал Бланшард Мюллер. Сколько Уиллард помнил, Мюллеры всегда жили за Бассартами на Харди-террас. Теперь дом опустел — жена Бланшарда умерла три года назад от болезни Паркинсона (это была мучительная и трагическая смерть), а дети выросли и разъехались кто куда. Старший сын, которого тоже звали Бланшардом, был уже младшим администратором в отделе снабжения железнодорожной компании «Рок Айленд» и жил с женой в Демойне, в штате Айова, а Конни Мюллер, здоровый, упитанный мальчишка, который учился двумя классами младше Люси, заканчивал теперь ветеринарное отделение Мичиганского университета.
Когда лет тридцать назад Бланшард Мюллер начинал свое дело, у него, по словам папы Уилла, только и было что сумка с инструментами да пара крепких ног, которыми он перемерил всю округу, ремонтируя по конторам пишущие машинки. Теперь он продавал, чинил и сдавал напрокат любые автоматы для конторской работы и был единоличным владельцем «Альфа-Бизнес машин компани», здание которой располагалось в Уиннисоу прямо позади окружного суда.
Гладко зачесанные стальные волосы Бланшарда только начинали подергиваться сединой, и в свои пятьдесят с небольшим он был еще статным мужчиной, с мощной челюстью и вздернутым, наподобие лыжи, кончиком носа. Когда он снимал очки с квадратными стеклами без оправы — а он в них никогда не садился за еду, — то становился удивительно похожим на знаменитого комика Боба Хоупа. В чем заключалась, как говорил папа Уилл, ирония судьбы, потому что мистер Мюллер не обладал чувством юмора. Зато он был человеком солидным, положительным и трудолюбивым — стоило только посмотреть, какой путь он проделал, чтобы убедиться в этом. Берте он сразу же понравился, а со временем и Уиллард признал, что в парне действительно есть много хорошего — он не перескакивает с темы на тему и не заговаривает людей до одури, скажет редко, да метко. И когда он высказывался о чем-то, к примеру об автоматической сортировке почты (тема, которую Уиллард поднял в одно из воскресений), он судил об этом ясно и дельно.
В сочельник, когда после ухода Уайти прошло больше трех лет, Бланшард попросил Майру стать миссис Мюллер: ей дадут развод на том основании, что ее муж оставил семью.
Люси узнала об этом на другое же утро — Рой позвонил родичам, сначала своим, а потом и ее, предупредить, чтобы их не ждали в Либерти-Сентре на Рождество. Утром у Эдварда обнаружилась температура и сильный кашель.
Когда в конце января (бронхит у Эдди затянулся почти на три недели) они приехали в Либерти-Сентр, им стало известно, что мать Люси все еще не дала мистеру Мюллеру определенного ответа.
К тому же Берта без конца перечисляла добродетели и достоинства Бланшарда, а это могло произвести на Майру совсем не тот эффект, которого она ожидала. Пожалуй, лучше всего было бы, если б Бланшард Мюллер действовал сам, и Майра тоже сама бы решала, хочет ли она начать новую жизнь с таким человеком, как он. А приставать с ножом к горлу, пока тебе не ответят «да», это, конечно, не метод: нельзя заставить человека быть таким, каким он быть не может, или испытывать чувства, которые он не испытывает. «Ведь правда, Люси?» — спрашивал Уиллард — ему казалось, что она должна быть его союзницей против Берты, но Люси давала понять, что ее дело сторона.
Вечером они ехали в Форт Кин через настоящую снежную бурю. Рой молчал, медленно ведя машину по шоссе, а Эдвард спал у нее на руках. Закутавшись в пальто, она смотрела, как снег хлещет по капоту, и думала: да, ее мать вот-вот выйдет замуж за такого человека, о котором Люси всегда мечтала, и ее собственный муж уже не пытается увильнуть от своих обязанностей. Да, все ее желания сбылись, но сейчас, когда они ехали домой сквозь снег, ветер и мглу, у Люси вдруг возникло ощущение, что так будет вечно, — она не умрет, ей суждено жить и жить в этом новом, ею самой сотворенном мире, где она сможет убеждаться в своей правоте, но где ей никогда не быть счастливой.
Снег шел всю зиму, но почему-то непременно по ночам. Дни были пронизаны холодом и отраженным снежным сиянием. Эдварду купили голубой комбинезон, красные варежки и такие же галоши. Закончив с уборкой, Люси наряжала его в эти яркие зимние одежки и шла на рынок, волоча за собой сумку на колесиках. Эдди шел рядом, он старательно ступал красной галошей в свежий снег и так же сосредоточенно вытаскивал ее обратно. После ленча он спал, а потом они брали санки и отправлялись в Пендлтон-парк. Люси возила его по дорожкам и катала с маленьких горок на пустых площадках для гольфа. Они старались растянуть обратный путь домой, шли вокруг прудов, где школьники носились на коньках, и выходили из парка через территорию Женского колледжа.
Девушки, с которыми она училась, закончили колледж еще в июне. Может, поэтому Люси так непринужденно разгуливала сейчас по студенческому городку, где избегала появляться все эти годы. Что касается педагогов, то они вряд ли помнили ее: слишком уж недолго она проучилась в колледже. Но ох как это было странно, удивительно странно — провозить Эдварда на санках мимо «Бастилии»! Ей очень хотелось рассказать ему о тех месяцах, что она провела в этом здании. О том, что и его жизнь начиналась здесь. «Мы жили вдвоем вот тут. И никому не было до нас дела, ни одной живой душе!»
За эти годы бараки снесли, а на их месте построили длинное кирпичное здание модернистского вида, предназначенное для классных занятий. За «Бастилией» строилась новая библиотека. Хотелось бы знать, где теперь помещается студенческая поликлиника — любопытно, работает ли там тот трусливый доктор. Сейчас бы она и глазом не моргнула, встреться он ей на дорожке. Пусть посмотрит на Люси с сыном, ей бы это даже доставило удовольствие.
Иногда они с Эдвардом заходили в «Студенческую кофейню» погреться горячим шоколадом и садились в тот же уголок, где в последние месяцы беременности обычно пристраивалась Люси. В зеркале на стенке она видела их обоих: покрасневшие носы, соломенные волосы, свисающие на глаза, совершенно одинаковые глаза. Как далеки от них те страшные дни в «Бастилии»! Здесь, рядом с ней, сидел крохотный мальчуган, которого Люси отказалась уничтожить, ее малыш, и теперь она ни за что не допустит, чтобы его обижали. «Спасибо, мама», — проговорил он, следя, как она перекладывает крем с верхушки своей порции в его стакан. И Люси подумала: «Вот он, со мной. Я спасла ему жизнь. Я, одна, без всякой помощи. Но почему же я чувствую себя такой несчастной? Разве я этого хотела?»
В солнечные дни они выходили пораньше, и, пока разгуливали до темноты, на улицах вырастали сосульки. Каждый раз Эдвард отламывал самую большую, какую только мог найти, бережно нес, сжимая красными варежками, и укладывал дома в холодильник, чтобы показать папочке, когда тот вернется с работы. Он и правда был очарователен, ее Эдвард, — она произвела его на свет, хранила и защищала, он принадлежал ей одной, и все же Люси чувствовала, что навсегда обречена на пустую и ничтожную жизнь.
В День Всех Влюбленных Рой принес домой два картонных сердца, наполненных конфетами, — побольше от себя, поменьше «от Эдварда». Когда вечером ребенок вылез из ванны, Рой решил сделать снимок на память: Эдди, причесанный и в купальном халате, дарит маме подарок (во второй раз).
— Улыбнитесь, детки.
— Пожалуйста, побыстрее, Рой.
— Но ведь ты даже не улыбнулась.
— Рой, я устала. Пожалуйста, поскорее.
Когда Эдварда уложили спать, Рой уселся на кухне со стаканом молока и любимым печеньем. Он развернул одну из своих папок и стал просматривать фотографии Эдварда, которые делал с самого его рождения.
— Знаешь, что мне сегодня пришло в голову? — Он вошел в гостиную, вытирая рот. — Это всего лишь идея, сама понимаешь. Я хочу сказать, что не отношусь к этому серьезно, правда?
— Какая еще идея?
— Ну, разобрать фото Эдди, разложить по годам и дать им общее название. Может, это и глупо, но снимки я уже подобрал, вот так-то…
— Для чего, Рой?
— Ну, для книги. Что-то вроде рассказа в фотографиях. Как, по-твоему, неплохая идея, если бы кто-нибудь вздумал за это взяться? А назвать можно «Путь ребенка» или «Чудо детства». Я набросал целый лист подходящих названий.
— Уже и набросал?
— Да, во время ленча. Они как-то сами полезли мне в голову… Ну, я и записал. Хочешь послушать?
Люси встала и ушла в ванную. Глядя в зеркало, она сказала себе: «Мне двадцать два. Всего лишь двадцать два». Когда она вернулась, в гостиной играло радио.

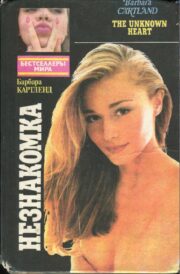
"Незнакомка. Снег на вершинах любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Незнакомка. Снег на вершинах любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Незнакомка. Снег на вершинах любви" друзьям в соцсетях.