Смеясь, она рассказала об этом Цезарю.
– Такая преданность должна быть вознаграждена, – подумав, ответил он. – Аполлодор, конечно, у тебя и так ведает всем, придумать для него еще какую-нибудь должность ты просто не сможешь, но постарайся просто сделать для него что-нибудь приятное. Например, привези ему отсюда что-нибудь такое, о чем он давно мечтал, но что сам себе никогда бы не приобрел.
От удивления царица даже приоткрыла рот. Подарок? Аполлодору? Ему можно просто подарить деньги, и… Юлий сказал «что-то, что он сам себе не купит»? Что это может быть? Чего вообще может хотеть мужчина такого возраста и такого положения? Она вообще никогда никому ничего не дарила, разве что брату и сыну…
– Впрочем, пожалуй, я лучше сам озабочусь подарком для Аполлодора.
Вот сейчас она растерялась по-настоящему. Цезарь? Займется поиском подарка? Для человека, который не является ему ни родственником, ни соратником, ни даже подчиненным?
Такого Клеопатра и представить себе не могла. Да знает ли она о нем хоть что-то? Или придумала себе образ, а на самом деле он совсем другой?
– Почему ты так пристально рассматриваешь меня? – поинтересовался Цезарь. – Что, за прошедшее время я сильно постарел?
Она покачала головой.
– Ты – бог, Юлий, а боги не стареют. Но у меня такое ощущение, что я хорошо знаю бога Юлия, а человека – не очень…
Усмехнувшись, он обнял ее.
– Ты взрослеешь, девочка. Ты начинаешь смотреть на мир более трезво. Что же, я очень надеюсь, что человек Юлий тебя разочарует не слишком.
Глава 20
– Тебя убьют.
– Сговорились вы, что ли? – за напускной шутливостью тона Цезарь попытался скрыть раздражение: сперва этот дурацкий предсказатель, позже – Кальпурния, курица, демоны бы ее побрали…
– Ты виделся с Кальпурнией? – Она почувствовала укол ревности. Цезарь был женат уже более пятнадцати лет; за это время у него имелась любовная связь не только с одной Клеопатрой, и, вместе с тем, он периодически продолжал ночевать на женской половине своего дома. Не разводился. И Кальпурния не требовала развода.
И Клеопатра ревновала своего любовника именно к ней, к этой хорошо сохранившейся, спокойной и полной чувства собственного достоинства римлянке. Ревновала, хотя была почти уверена в двух вещах: Цезарь за то время, что они были не вместе, не хранил верность ей, Клеопатре, и изменял он ей вовсе не с Кальпурнией.
Кальпурния тоже бывала на вилле у Клеопатры – дважды; держалась с чувством собственного достоинства, но приветливо, и Клеопатра понимала: и приветливость, и чувство собственного достоинства – не напускные. Это просто очень достойная женщина. Которая к тому же достаточно хорошо относится к ней, Клеопатре, любовнице своего мужа.
Сама царица при виде супруги Юлия испытывала двойственные ощущения: Кальпурния и нравилась ей, и выводила из себя – одновременно.
Юлий о супруге всегда высказывался очень уважительно, и это, брошенное в сердцах, «курица» прозвучало в его устах достаточно странно.
– Когда ты виделся с Кальпурнией? – она несколько видоизменила вопрос.
– Я ночевал там сегодня, – на щеках Цезаря заиграли желваки: он не любил, когда кто бы то ни было, пускай это даже последняя в его жизни любимая женщина, пытался предъявлять какие-либо права на него.
Клеопатра передернула плечами.
– Я спрашиваю потому, что мне интересно, когда именно Кальпурния предупреждала тебя об опасности. И что именно она сказала. Кстати, по поводу «курицы» ты меня удивил: на мой взгляд, твоя супруга умна.
Цезарь резко обернулся, его серые глаза впились зрачками в глаза Клеопатры. Почему-то считается, что взгляд Юлия трудно выдержать. Глупости какие.
– Кальпурния сказала, чтобы я остерегался Брута, – сказал он наконец.
Клеопатра кивнула.
– Мне тоже не нравится этот молодой человек… хотя он и твой сын, – бросила она.
Сервилия, мать Брута, вызывала в ней не ревность – неприязнь, а может быть, даже ненависть. И – страх. Сильная, яркая, живая. Наглая. Может быть, чем-то напоминающая ее саму, Клеопатру. Старуха, по счастью. Впрочем, будь она молода, все равно испытывать к ней ревность Клеопатра не смогла бы. Разве можно ревновать… к скорпиону? Хотя он по-своему тоже красив.
– Брут – не мой сын, – порой в общении с этой женщиной Цезарь удивлялся сам себе. Чего ради, спрашивается, ему оправдываться? А ведь начал! – Я сошелся с Сервилией, когда Марк Юний уже сменил претексту на тогу вирилис.
– А сам Марк Юний знает об этом? Или он все же считает тебя своим отцом, отцом, по какой-то причине не признавшим рожденного вне брака сына?
Цезарь от души рассмеялся.
– Такое может прийти в голову только последней сплетнице на базаре. Брут – мой сын! Смешно, право слово! Да когда он родился, я…
– Божественный Цезарь, согласно слухам, пользовался успехом у женщин еще в весьма нежном возрасте, – поехидничала Клеопатра; ее почему-то сегодня тянуло говорить ему гадости.
Может быть… может быть, это было связано с тем, что она снова носит под сердцем ребенка? Нет, это невозможно, она только недавно родила… Но она чувствовала, что в ней зародилась новая жизнь! Чувствовала! А может, просто хотела в это верить?
Клеопатра загадала: если сегодня Цезарь вернется из Сената живой и здоровый, она родит девочку, прекраснее которой еще не было на свете. Мужчины больше любят дочерей, это известно всем. У Цезаря была дочь, старше самой Клеопатры; она умерла около десяти лет назад, при родах. И если Клеопатра родит ему дочь, он наконец-то женится на ней.
– Брут ненавидит тебя.
– Брут – странный мальчик со странными идеями, но он искренне предан мне.
– Идеи для твоего «странного мальчика» вторичны. Он ненавидит тебя, – повторила женщина. – Я чувствую. И не только я: ты сам сказал, что Кальпурния тоже понимает это. Он убьет тебя, прикрываясь бредовой идей возвращения республики.
Он подошел поближе, устроился на маленькой скамеечке рядом с ее ногами.
– Почему бредовой, моя царица?
– Платон считал демократию наихудшей формой государственного правления.
– Платон считал идеальным устройством государства, когда все жены общие.
– Разве ты не придерживался всю жизнь того же принципа, мой Цезарь? Многие жены в твоем понимании были общими, и ты пользовался ими, как своими.
Ну, вот, она опустилась до упреков… Так завершать фразу было нельзя, и она продолжила:
– К тому же народ предпочитает сильную власть. Пускай лучше один жесткий правитель, чем целая толпа, каждый второй из которой норовит положить что-то себе в карман.
Цезарь помолчал.
– По-моему, ты несколько утрируешь.
Клеопатра качнула головой.
– Я говорю о том, как рассуждает простой римский гражданин. И потом, мне кажется, что, если они тебя убьют, они сослужат плохую службу сами себе. Как бы народ ни был недоволен правителем, после смерти, особенно насильственной, он получает что-то вроде ореола. Вспомни моего брата.
Цезарь усмехнулся; возле рта образовались жесткие складки:
– Вот видишь, моя дорогая, стало быть, мне нечего бояться.
– Есть! Есть, чего бояться! Далеко не все понимают это. Я думаю… Я почти уверена: против тебя зреет заговор!
Юлий опять усмехнулся, на этот раз – удовлетворенно:
– Я так и думал, моя дорогая, что даже на чужой территории ты сумеешь обзавестись собственными прознатчиками.
Клеопатра в отчаянье сжала пальцы. Она-то сумела. Но что толку, если он все равно не слышит ее предостережений? Может быть, следовало самой навестить Кальпурнию? Вдвоем они бы сумели придумать, как повлиять на Цезаря. Только вот римская матрона скорее всего не захотела бы встречаться с любовницей собственного мужа, посчитав ее визит за оскорбление.
Нет, все-таки если он сегодня вернется из Сената живым, завтра же… нет, сегодня же вечером она отправится к Кальпурнии. В простой одежде, так, чтобы никто не увидел в ней египетскую царицу.
Она возьмет с собой одного только Мардиана…
– Кто может устроить против меня заговор? Разве у меня есть враги?
– Немного самоуверенно звучит, ты не находишь? К тому же у человека, который представляет собой хоть что-то, просто не может не быть врагов. Чем могущественнее человек – тем могущественнее у него враги.
– Пока ты назвала одного Брута. Да и то…
– Назвать еще? Пожалуйста: помилованные тобой помпеянцы.
Брови Цезаря поползли наверх. Кажется, несколько преувеличенно.
– Сторонники Помпея? Им-то за что ненавидеть меня? За то, что я их пощадил? Или за то, что приказал восстановить его статую?
– Да. Именно за это. За то, что приказал пощадить. За то, что восстановил статую. Ты тем самым плюнул им в лицо, показав, что они для тебя ничего не значат.
Юлий усмехнулся.
– Возможно, ты права. Возможно, вы все правы, кому пришло в голову предостеречь меня. Но не кажется ли тебе, что человек, постоянно ожидающий смерти, не живет? И умирает многократно. Лучше уж один раз…
Они помолчали.
– Расскажи лучше что-нибудь… жизнеутверждающее.
Жизнеутверждающее? Что? О том, как маленький Цезарион ест? Пачкает одежду – он как раз учится есть самостоятельно? Казалось бы, ничего более жизнеутверждающего не придумаешь, и, вместе с тем, Клеопатре сейчас совсем не хотелось говорить о сыне.
Она начала разговор о какой-то ерунде. О подарке из храма Херу – особой маске для волос. Который на самом деле она получила задолго до отъезда из Египта.
– Ты умная девочка.
Они снова помолчали.
– Я готовлю для тебя подарок. Думаю, он тебе понравится. Но пока не скажу, – лицо Цезаря стало лукавым.
Лучшим подарком для нее будет, если он останется жив. Но она нашла в себе силы промолчать. В конце концов, негоже столько говорить о смерти – того и глядит, накличешь.
Она не могла занять себя ничем. Собралась читать – не вышло. Решила писать. Слуга с поклоном принес свиток папируса, восковые таблички. Она запишет то, что опасно доверять… Нет, нет! Она не будет ничего писать об этом. Лучше заняться какой-нибудь ерундой. Может быть, написать, как следует ухаживать за волосами? Для многих женщин это важно…
Но в голову ничего не шло.
Она покрутила в руках стилос. Если бы его можно было сломать, наверное, это принесло бы ей какое-то успокоение… Но такой не сломаешь.
В дверь сунулась было нянька маленького Цезариона – Клеопатра жестом отослала ее. Не хватало сорваться еще на малыше и его няньке! Если Цезаря убьют, мальчик – единственное, что останется ей… Нет! Прочь гнусные мысли! С ним все будет хорошо!
Но в то, что будет хорошо, не верилось.
Когда дверь скрипнула, пропуская верного Мардиана, Клеопатре хватило одного взгляда на него, чтобы понять: все.
– …умер, как истинный римлянин! Тогой лицо успел накрыть, чтобы они не видели!
– Сучье отродье!
– И ноги.
– Да, говорят, у него были больные ноги…
– У Цезаря-то?! Да он был сложен как Аполлон!
– Поэтому и завидовали!
– Ну, да! Ты Брута видал?
– Но Цезарю уже перевалило за пятьдесят…
– Пятьдесят шесть ему…
– Не пятьдесят шесть, а пятьдесят пять.
– Ну и что? Он все равно был мужчина хоть куда!
– Да уж, получше многих!
– Вон на одного только Брута поглядеть! Молодой, а смотреть не на что!
– Говорят, Брут его и добил.
– Брут?! Этот сопляк?! Если на теле Цезаря есть не рана, а царапина, то это от Брута! Ненавидел сильнее всех, а ударить как следует не смог бы. Он не воин.
– Да и вообще не мужик.
– Да ну, ерунда! Они все по очереди били, чтобы одинаково быть виновными. Чтобы никто чистеньким не остался. С-с-суки!
– Его последний добил. Судя по тому, сколько там кровищи было.
– Его кто-то из них в лицо ударил.
– А кто-то еще в это… причинное место…
– Ну, это явно кто-то его мужским статям завидовал…
– Да все они завидовали! Их жены все как одна к Цезарю побежали бы, если бы он только свистнул!
– Он их всех затмевал. По всем параметрам.
– …
Значение этого ругательства Клеопатра как-то спросила у Цезаря – сама не догадалась. Цезарь сперва погладил ее по голове, словно маленькую девочку, и сказал, чтобы она такого больше никогда не повторяла, потому что это – «очень плохое выражение». Но царица буквально на следующий день употребила его: не привыкла чего-то не знать и решила «взять Юлия измором». Он догадался. Долго смеялся, но потом все же разъяснил. Ругательство и вправду было… слишком грязным.

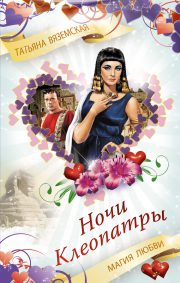
"Ночи Клеопатры. Магия любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ночи Клеопатры. Магия любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ночи Клеопатры. Магия любви" друзьям в соцсетях.