— Может быть, тебе лучше убрать его, — Роджер указал на палец Брианны, которым она направляла «инструмент» малыша в горшок. — Ты разовьешь в бедном парне плохие привычки.
— Прекрасно, — Бри с готовностью убрала руку, и маленький короткий предмет тут же выскочил из горшка, нацелившись прямо на Роджера.
— Эй! Подожди… — начал он и успел вовремя прикрыться рукой.
— Пис, — довольно произнес Джемми.
— Дерьмо!
— Делмо! — отозвался веселым эхом Джемми.
— Это совсем не… Ты прекратишь смеяться? — с раздражением спросил Роджер, вытирая руку о тряпку.
Брианна фыркала и захлебывалась от смеха, и пряди волос из растрепанной косы упали ей на лицо.
— Хороший мальчик, Джемми! — наконец, выдавила она.
Ободренный этими словами, Джемми сосредоточился, наклонил голову и приступил ко второму действию ночной драмы.
— Умница! — произнес Роджер.
Брианна удивленно взглянула на него, прекратив смеяться.
Он сам удивился. Слова вылетели у него ненамеренно, и как только они прозвучали, ему показалась, что голос был не его. Очень знакомый, но не его собственный. Так же как, когда он записывал песню Клеллана, он слышал голос старика, хотя слова произносили его собственные губы.
— Да, умница, — сказал он мягко и погладил мальчика по шелковистым волосам.
Он понес вылить горшок на улицу, в то время как Брианна с поцелуями и восхищенным бормотанием уложила Джемми спать. Выплеснув из горшка, он вымыл руки у колодца и зашел в дом.
— Ты закончил писать? — сонно спросила Бри, когда он скользнул в кровать рядом с ней. Она повернулась и бесцеремонно уткнулась задом ему в живот. Роджеру это понравилась, особенно учитывая тот факт, что она была на тридцать градусов теплее, чем он после уличного холода.
— На сегодня да, — он обнял ее и поцеловал в ухо. Она молча взяла его руки и, подтянув к своему подбородку, поцеловала суставы его согнутых пальцев. Его мускулы слегка расслабились, и он ощутил еле заметное движение их тел, когда они приспосабливались друг к другу. От кроватки доносилось негромкое посапывание; сухой Джемми сладко спал.
Брианна подкинула дров в огонь, и он горел ровно, распространяя тепло и свежий аромат гикори. Время от времени, когда пламя касалось смолы или влажного пятна на дереве, оно испускало треск и искры. Тепло распространилось по телу Роджера; медленно подкрался сон, набрасывая на него свое сонное одеяло и раскрывая ящички его памяти, из которых вываливались мысли и впечатления прошедшего дня, образуя разноцветные кучки.
Сопротивляясь сну, он ворошил эти кучки тут и там в надежде найти ускользнувшие слова песни о Тефлере и вытянуть их в область сознательного. Однако он вытащил не историю про злополучного Вили, а голос. Не его собственный, и не старого Кимми Клеллана.
«Умница!» — произнес голос ясным теплым контральто, окрашенным смехом. Роджер дернулся.
— Что? — пробормотала Брианна, встревоженная его движением.
— Давай, будь умницей, — медленно проговорил он, повторяя слова, как они сформировались в его памяти. — Так говорила она.
— Кто? — Брианна повернула к нему голову.
— Моя мать, — он положил свободную руку на ее талию и прижал к себе. — Ты спросила, как говорят в Шотландии, чтобы заставить ребенка пописать в горшок. Я вспомнил, что она обычно говорила мне: «Давай, будь умницей».
Бри сонно хохотнула.
— Ну, это лучше, чем пис-пис.
Они некоторое время лежали тихо. Потом она мягко, но уже без всяких признаков сна в голосе сказала:
— Ты иногда говорил о своем отце, но я никогда не слышала, чтобы ты упоминал о матери.
Он пожал одни плечом, подгибая колени к ее бедрам.
— Я мало что помню о ней.
— Сколько тебе было, когда она умерла? — пальцы Брианны коснулась его руки.
— Четыре или пять.
— Ммм, — она издала сочувствующий звук и сжала его руку. Некоторое время она молчала, погрузившись в свои мысли, но Роджер слышал, как она сглотнула, и почувствовал напряжение в ее плечах.
— Что?
— О… ничего.
— Да? — он отнял руку и, убрав в сторону ее тяжелую косу, стал мягко мять ее затылок. Она повернула голову, уткнувшись лицом в подушку, чтобы ему было удобно.
— Просто… я подумала, что если я умру сейчас… Джемми такой маленький, он не будет помнить меня вообще, — прошептала она приглушенным голосом.
— Нет, он будет, — автоматически возразил он, желая утешить ее, даже зная, что она наверняка права.
— Ты ведь не помнишь, а ты был старше его, когда потерял мать.
— О… я помню ее, — медленно произнес он, нажав большим пальцем туда, где соединялись ее шея и плечо. — Только фрагментарно. Временами, когда я вижу сны или думаю о чем-нибудь, я мельком вижу ее или слышу ее голос. Некоторые вещи я помню хорошо, например, медальон, который она носила на шее. На нем маленькими красными камнями были выложены ее инициалы. Камни были гранатами.
Этот медальон, возможно, спас ему жизнь во время его первой неудачной попытки пройти сквозь камни. Иногда он чувствовал его утрату, как маленькую занозу под кожей, но отмахивался от этого чувства, говоря себе, что это всего лишь кусочек металла.
— Это только вещь, Роджер, — в ее голосе прозвучала резкая нотка. — Ты помнишь ее? Я имею в виду, что Джемми будет знать обо мне… о тебе, если все что от нас останется, — она остановилась в поисках подходящих предметов, — это твой бойран и мой складной нож?
— Ну, он будет знать, что его папа был музыкальным, а мама кровожадной, — сказал Роджер. — Ай! — он дернулся, когда она ударила его кулаком по бедру, потом умиротворяющим жестом положил руки на ее плечи. — Нет, действительно, он многое будет знать о нас, и не только благодаря вещам, которые останутся после нас, хотя они помогут ему помнить.
— Как?
— Ну… — он почувствовал, как ее плечи расслабились, и острый край лопатки уперся в его руку. «Она слишком похудела», — подумал он. — Ты ведь изучала историю, не так ли? Ты знаешь, как много можно сказать, изучая даже такие простые домашние вещи, как посуда и игрушки.
— Ммм, — она, казалось, сомневалась, но он подумал, что она просто хотела, чтобы ее убедили.
— И Джем многое узнает о тебе из твоих рисунков, — указал он. «И чертовски много, если прочитает твой сонник», — подумал он. Внезапный импульс признаться, что он читал дневник с ее снами, едва не заставил его проговориться, но он сглотнул слова, уже висевшие на кончике языка. За страхом, что она скажет, когда узнает о его вторжении в ее скрытый мир, существовал больший страх, что она перестанет писать, и ее маленькие секреты будут потеряны для него.
— Думаю, ты прав, — медленно произнесла она. — Интересно, будет ли Джемми рисовать или играть на музыкальных инструментах?
«Если, конечно, Стивен Боннет играет на флейте», — язвительно подумал Роджер, но отмел эту неприятную мысль.
— Таким образом, он будет многое знать о нас, — сказал он, возобновляя свой нежный массаж. — Кроме того, он будет видеть себя.
— Ммм?
— Посмотри на себя, — указал он. — Все, кто видят тебя, сразу же говорят, что ты дочь Джейми Фрейзера. И не только из-за рыжих волос. А как насчет меткости в стрельбе? А как вы с матерью любите помидоры…
Она невольно почмокала губами и хихикнула в ответ на его смех.
— Да, я понимаю, — сказала она. — И зачем ты только напомнил о помидорах? Я съела последний на прошлой неделе, а до новых еще шесть месяцев.
— Извини, — сказал он и поцеловал ее в шею сзади.
— Интересно, — произнес он мгновение спустя, — когда ты узнала о Джейми… когда мы начали его искать, ты ведь задавалась вопросом, каким он был? А когда ты встретила его, как он соответствовал твоим представлениям? Был ли он таким, как ты себе воображала?
Она засмеялась несколько суховато.
— Я не знаю, — сказала она. — Я не знала тогда, и все еще не знаю сейчас.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, когда встречаешь живого человека, обнаруживаешь, что он отличается от того, что вы слышали о нем или вообразили. Но все равно ваше представление остается, и оба образа сливаются в один. И наоборот… — она задумалась, — когда вы знали кого-то, а потом слышите что-то о нем, это влияет на то, как вы представляете его, не так ли?
— Да? Может быть. Ты имеешь в виду… твоего второго отца? Фрэнка?
— Может быть, — она пожала плечом, сбрасывая его руку. Ей не хотелось говорить о Фрэнке Рэндалле, не сейчас.
— А твои родители, Роджер? Ты не думаешь, что священник хранил все эти старые коробки, чтобы ты мог позже посмотреть их вещи и узнать о них больше, чтобы эти вещи добавили что-то к твоим реальным воспоминаниям о них?
— Я… да, думаю, это так, — ответил он неуверенно. — Вряд ли у меня есть реальные воспоминания о моем отце. Он видел меня только один раз, и тогда мне было меньше года.
— Но ты ведь помнишь свою мать?
Она, казалось, очень хотела, чтобы он помнил. Он задумался, и его потрясла внезапная мысль. Он никогда сознательно не пытался вспомнить свою мать. Осознание этого принесло ему непривычное чувство стыда.
— Она умерла во время войны, да? — Бри протянула руку и мягко сжала его напрягшееся бедро.
— Да. Во время блица. [234]Бомба.
— В Шотландии? Но я думала…
— Нет. В Лондоне.
Он не хотел говорить об этом. Он никогда не говорил об этом. В редких случаях, когда память вела его к тем дням, он отворачивался прочь. Эта территория была за закрытой дверью, на которой висел знак «Хода нет», и он никогда не пытался войти туда. Но сегодня… он понимал горечь Бри, когда она думала, что сын не будет помнить ее. Отголосок этой горечи звучал за закрытой дверью в его памяти тихим голосом женщины. Но была ли дверь заперта?
С чувством пустоты в груди, которое, возможно, было страхом, он протянул руку и положил ладонь на ручку этой двери. Как много он вспомнит?
— Моя бабушка, мать моей мамы, была англичанкой, — медленно начал он. — Вдовой. И когда отец погиб, мы приехали жить к ней.
Он вспоминал о бабушке не больше, чем о матери все эти годы. Но говоря о ней сейчас, он мог чувствовать аромат розовой воды и глицерина, который она использовала для рук, немного плесневелый запах квартиры в Тоттенхэм-Корт-Роуд, переполненной мебелью из конского волоса, слишком большой для квартиры, оставшейся от прежней жизни, где были муж и дети.
Он глубоко вздохнул. Бри почувствовала это и ободряюще прижалась спиной к его груди. Он поцеловал ее в шею. И дверь открылась; не намного, всего лишь маленькая щель, но сквозь нее засиял свет зимнего лондонского дня, освещая старые деревянные кубики на изношенном ковре. Рука женщины, строящая башню из кубиков; солнечные лучи, сверкающие радугой на бриллианте на ее пальце.
— Мама, она была маленькой, как бабушка. Они обе казались мне большими, но я помню, что она вставала на цыпочки, чтобы достать что-нибудь полки.
Банку, хрустальную сахарницу, старый чайник, три разномастные чашки. На его чашке была нарисована панда. Пакет с бисквитами, красный, с попугаем на нем. Делают ли сейчас такие? Нет, конечно…
Он решительно отбросил эти отвлекающие воспоминания.
— Я знаю, какая она была, но, в основном, по фотографиям, а не по своим впечатлениям.
И все-таки у него были воспоминания, понял он с ноющим ощущением в желудке. Он подумал: «Мама» и видел уже не фотографии, а цепочку ее очков, маленькие металлические бусинки на мягком изгибе ее груди и ощущал приятную теплую гладкость, пахнущую мылом, против своей щеки. Хлопчатобумажную ткань ее домашнего платья с синими цветами, колокольчиками. Он видел их ясно.
— Какая она была? Вы похожи хоть немного?
Он пожал плечами; Бри повернулась, чтобы смотреть на него, положив голову на вытянутую руку. Ее глаза, освещенные интересом, сияли в полумраке.
— Немного, — медленно проговорил он. — Ее волосы были такими же черными, как мои.
Блестящие и вьющиеся, они развевались на ветру, и в них застряли белые песчинки. Он насыпал ей песок на голову, и она, смеясь, отряхивала его с волос. Пляж?
— Преподобный держал в кабинете несколько ее фотографий. На одной она держала меня на коленях. Я не знаю, на что мы смотрели, но мы оба выглядели так, словно еле удерживались от смеха. Мы смотрелись очень похожими на ней. У меня ее рот, я думаю, и… возможно, форма бровей.
В течение долгого времени он чувствовал стеснение в груди, когда видел фотографии матери. Но потом они потеряли свое значение и стали не больше, чем предметами, в переполненном доме священника. Теперь он снова ясно увидел их, и стеснение в его груди возвратилось. Он сильно откашлялся, надеясь ослабить его.

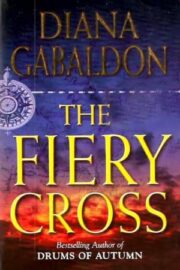
"Огненный крест. Книги 1 и 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2" друзьям в соцсетях.