— Хочешь воды? — она приподнялась и потянулась к кувшину с водой, который она всегда держала на табурете возле кровати, но он покачал головой, положив ладонь на ее руку, чтобы остановить ее.
— Все в порядке, — немного хрипло произнес он и откашлялся снова. Горло сжалось и болело так же, как в дни после повешения, и его рука в невольном поиске шрама коснулась пальцем неровного рубца под челюстью.
— Ты знаешь, — сказал он, пытаясь хотя бы на мгновение отвлечься, — тебе следует нарисовать свой автопортрет в следующий раз, когда ты поедешь к тете в Речной поток.
— Что, мой портрет? — ее голос прозвучал удивленно, но ему показалось, что идея ей понравилась.
— Конечно. Ты можешь, я знаю. И тогда будет… постоянная память.
Для Джема, чтобы помнить, если что-нибудь с ней случится. Невысказанные слова повисли над ними в темноте, заставив их на мгновение замолчать. Черт, а он хотел утешить ее.
— Мне хотелось бы иметь твой портрет, — сказал он мягко и провел пальцем по ее щеке. — И когда мы состаримся, я посмотрю на него и скажу, что ты совсем не изменилась.
Она коротко фыркнула, но повернула голову и поцеловала его пальцы, потом перекатилась на спину.
— Я подумаю об этом, — сказала она.
В комнате было тихо, только негромко потрескивал огонь, и изредка на поленьях шипела смола. Ночь была холодной и спокойной, но утро будет туманным. Когда он выходил на улицу, то ощутил, как над землей собирается влага. Однако в доме было тепло и сухо. Брианна снова вздохнула, и он почувствовал, что она погружается в сон. Роджером также овладело сонное состояние.
Искушение, сдаться и погрузиться в забвение, было велико, но хотя страхи Брианны немного рассеялись, он продолжал слышать ее шепот: «Он не будет помнить меня вообще». Но сейчас шепот звучал с той стороны двери.
«Нет, мама, я вспомню», — подумал он и распахнул дверь.
— Я был с нею, — произнес он тихо, глядя вверх на соединяющиеся где-то в темноте стропила.
— Что? С кем? — в ее сонном голосе прозвучало любопытство.
— С моей матерью. И бабушкой. Когда… бомба…
Он услышал, как она резко повернула к нему голову, но он продолжал смотреть вверх на темные балки.
— Ты хочешь рассказать мне? — рука Брианны сжала его руку. Он не был уверен в этом, но кивнул и сжал ее ладонь в ответ.
— Да, думаю, я должен, — сказал он тихо и глубоко вздохнул, ощущая запах кукурузной каши и лука, висевшего по углам хижины. Где-то в глубине памяти он мог чуять воображаемые запахи горячего воздуха от нагревательных регистров, овсянки и бензиновых паров от грузовиков на улице.
— Это был ночной налет. Выли сирены. Я не впервые попадал в бомбежку, но каждый раз пугался до смерти. Не было времени одеться. Мама вытащила меня из кроватки, натянула пальто прямо на пижаму, и мы побежали вниз по лестнице с тридцатью шестью ступеньками. Я пересчитал их днем, когда возвращался домой из магазина.
Самым близким убежищем была станция метро через дорогу; грязно-белые плитки и вспышки люминесцентных ламп, движение теплого воздуха откуда-то снизу, словно дыхание дракона из пещеры.
— Это было невероятно, — он видел, как люди давились, слышал крики дежурных, перекрывающие шум толпы. — Все вибрировало: лестница, стены, сам воздух.
Ноги стучали по деревянным ступенькам, когда толпа втекала в недра земли; вниз, один пролет, платформа, еще вниз и еще, в безопасность. Была паника, но паника упорядоченная.
— Бомбы могли пробить пятьдесят футов земли, но самые нижние уровни были безопасны.
Они достигли основания первой лестницы и вместе с толпой побежали к другой через короткий туннель с белой плиткой. На площадке перед второй лестницей образовался затор, поскольку из туннеля люди все пребывали и пребывали, а спускаться по ней одновременно могло ограниченное количество.
— Вход на вторую лестницу был огорожен невысокой стенкой, и я слышал, как бабушка беспокоилась, что меня раздавят.
Он стоял на цыпочках с грудью, прижатой к бетону, и мог видеть через стенку пунктир аварийных ламп и движущуюся внизу толпу. Была поздняя ночь, и большинство людей были одеты во что попало. В свете тут и там вспыхивали обнаженные участки тела и самые необычные предметы одежды. Одна женщина вместе со старым изношенным пальто надела экстравагантную шляпу, украшенную перьями и фруктами.
Он зачаровано наблюдал за толпой внизу и пытался разглядеть, действительно ли на шляпе был настоящий фазан. Дежурный в белом шлеме с большой черной буквой «Д» на ней яростно кричал, пытаясь заставить людей быстрее пройти к дальнему концу платформы, освобождая место для спускающихся с лестницы.
— Плакали дети, но не я. На самом деле я даже не боялся, — он не боялся потому, что мама держала его за руку. Если она была рядом, ничего плохого произойти не могло.
— Было большое сотрясение. Я видел, как задрожали огни. Потом вверху раздался звук, словно там что-то треснуло. Все поглядели наверх и стали кричать.
На наклонном потолке образовалась трещина, которая сначала не выглядела пугающей, только тонкий черный зигзаг среди белой плитки. Но потом она внезапно расширилась зияющей утробой, как пасть дракона, и вниз посыпались грязь и плитки.
Роджер давно согрелся, но теперь каждый волосок на его гусиной коже дрожал. Его сердце колотилось в груди, и ему казалось, что петля снова затянулась на его шее.
— Она отпустила, — сказал он задушенным шепотом. — Она отпустила мою руку.
Руки Брианны схватили его руку и крепко сжали, пытаясь спасти того маленького мальчика.
— Она должна была, — сказала она настойчивым шепотом. — Роджер, она не отпустила бы, если бы не было необходимости.
— Нет, — яростно покачал он головой. — Это не то… я имею в виду… подожди. Подожди минутку, хорошо?
Он сильно моргнул, пытаясь замедлить дыхание, собрать разбитые части той ночи. Хаос, безумство, боль… но что произошло на самом деле? Он не запомнил ничего, кроме ощущения хаоса. Но он был там, и он должен знать, что произошло. Если только он сможет заставить себя пережить это снова.
Он закрыл глаза и позволил памяти вернуться.
— Я ничего не помнил сначала, — сказал он, наконец, спокойно, — или точнее, я знал, что произошло со слов других людей.
Он не помнил, как его без сознания несли по туннелю, как после своего спасения он провел несколько недель в детских приютах и сиротских домах, немой от потрясения.
— Я, конечно, знал свое имя и свой адрес, но это мало помогло. Мой отец уже погиб, и когда люди из Красного креста нашли брата моей бабушки, и он приехал забрать меня, они выработали свою версию того, что произошло в убежище.
— Чудо, что я не погиб со всеми на площадке, сказали они мне. Они сказали, что мать каким-то образом среди паники выпустила мою руку, и меня, должно быть, унесло от нее людским потоком, и таким образом я оказался на нижнем уровне, где крыша не обвалилась.
Рука Брианны, которая все еще держала его ладонь, сжала ее сильнее.
— Но сейчас ты помнишь, что произошло? — спросила она тихо.
— Я помню, как она отпустила мою руку, — произнес он. — И потому я думал, что остальное тоже правда. Но это не так.
— Она отпустила мою руку, — сказал он. Слова теперь давались ему легче; тяжесть в его груди и сжатие в горле прошли. — Она отпустила мою руку… а потом взяла меня. Эта маленькая женщина… она подняла меня и перебросила через стенку. Вниз в толпу на нижнюю платформу. Я был оглушен падением, но я помню грохот обвалившейся крыши. Никто на той площадке не выжил.
Брианна прижалась лицом к его груди и испустила длинный дрожащий вздох. Он погладил ее волосы, и его сердце, наконец, замедлило свой сумасшедший бег.
— Все в порядке, — прошептал он ей. Голос его был хриплым и резким, и огонь в камине вспыхнул расплывчатыми звездами сквозь влагу в его глазах. — Мы не забудем. Ни Джем, ни я. Независимо ни от чего, мы не забудем.
Он видел лицо своей матери, сияющее среди звезд.
«Умница», — сказала она и улыбнулась.
Глава 99
Брат
Снег начал таять, и меня волновали противоположные чувства: радость от того, что наступает весна, и в мир приходит тепло, и тревога от того, что тает барьер холода, который ограждал нас, пусть и временно, от внешнего мира.
Джейми не отказался от своего намерения. Он потратил вечер и, тщательно подбирая слова, составил письмо Милфорду Лайону. Он готов, написал он, рассмотреть вопрос Лайона о продаже своего товара — то есть незаконного виски — и рад сообщить, что имеет на данный момент достаточное его количество. Однако он беспокоится о сохранности товара во время доставки — не исключена возможность его перехвата таможенниками или грабежа в пути — и желал бы иметь гарантию, что доставкой будет заниматься джентльмен, известный своей способностью в таких делах: другими словами контрабандист, которому известно все побережье сверху донизу.
Он написал, что получил уверения от своего друга мистера Пристли из Эдентона (который о Джейми и не слышал) и от мистера Сэмюеля Корнелла, с которым имел честь быть в военном совете губернатора, что некий Стивен Боннет как нельзя лучше подходит для такого рода дел. Если бы мистер Лаойн устроил ему встречу с мистером Боннетом, чтобы Джейми мог составить свое мнение и убедиться в надежности предприятия, то…
— Ты думаешь, он сделает это? — спросила я.
— Если он знает Стивена Боннета и сможет найти его, то, да, сделает, — Джейми прижал кабошон перстня к воску, запечатывая письмо. — Пристли и Корнелл — это имена, способные творить чудеса.
— А если он действительно найдет Боннета…
— Тогда я поеду и встречусь с ним, — он убрал кольцо с затвердевшего воска, оставив на нем гладкую выемку, окруженную маленькими земляничными листьями герба Фрейзеров. Листья означали постоянство. В некоторые моменты мне казалось, что это лишь другое слово для обозначения упрямства.
Письмо было отправлено с Фергюсом, и я попыталась забыть о нем. Все еще длилась зима, и при удаче судно Боннета могло попасть в шторм и затонуть, избавив нас от больших неприятностей.
Однако мысль о нем постоянно присутствовала в тайном уголке моего ума, и потому, когда я вернулась после приема родов и обнаружила пачку писем в кабинете Джейми, мое сердце подпрыгнуло к самому горлу.
Слава Богу, я не нашла среди них письма от Милфорда Лайона. Но даже если бы оно пришло, оно в тот же момент было бы забыто, потому что среди корреспонденции находился конверт с именем Джейми, написанным твердым почерком его сестры.
Я едва подавила желание тут же вскрыть его и, если в нем были несправедливые упреки, бросить письмо в огонь, пока Джейми не увидел его. Однако воспитание возобладало, и я смогла сдержать себя до тех пор, пока Джейми не прибыл из Салема, залепленный грязью с головы до ног по причине раскисших дорог. Узнав о письме, он торопливо сполоснул руки и лицо водой и вошел в кабинет, тщательно закрыв за собой дверь, прежде чем сломать печать.
На его лице не отражалось никаких эмоций, но я видела, что он глубоко вздохнул, как бы готовясь к худшему. Я тихо подошла к нему и положила руку на плечо в молчаливой поддержке.
Дженни Фрейзер Мюррей писала уверенной рукой округлыми изящными буквами с четкими линиями.
«16 сентября 1771.
Брат,
Взяв перо и написав это слово, я сидела и смотрела на него, пока свеча не сгорела на целый дюйм, а в голове так и не появилось ни одной мысли: что я могу тебе сказать. Однако продолжать сидеть, ничего не делая — бесполезная трата воска, но с другой стороны, если я погашу свечу и пойду спать, то лист бумаги будет испорчен. Значит, я должна продолжить.
Я могла бы упрекать и ругать тебя. Таким образом я заполнила бы часть листа теми словами, которые, по словам моего мужа, были самыми грязными и отвратительными ругательствами, которые он когда-либо слышал в своей жизни. Не пропадать же им зря, в свое время я приложила много усилий, придумывая их. Однако думаю, что мне не хватит бумаги, чтобы записать их все.
И еще я думаю, что не хочу бранить и обвинять тебя, поскольку ты можешь воспринять это как справедливое наказание и потому решишь, что искупил свою вину, и совесть твоя успокоится. Это было бы слишком легкое наказание; мне хочется, чтобы вина терзала твою душу, как потеря сына терзает мою.
Несмотря на это, я хотела бы простить тебя, и хотя в настоящее время это кажется мне весьма сомнительным, может быть со временем, эта мысль станет для меня более приемлемой».

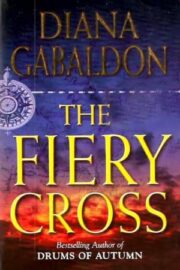
"Огненный крест. Книги 1 и 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2" друзьям в соцсетях.