— Я везде тебя искал, — бормотал он, зарывшись губами в ее волосы. — Я уехал в Тир, потом в Цезарею. Я жил тем днем, когда снова найду тебя, Селена. Боль была невыносима. Я думал, если найду тебя, то буду за тебя бороться, буду снова завоевывать тебя. Я понятия не имел, куда ты исчезла.
— Те ужасные месяцы во дворце Лаши, — всхлипывая, лепетала она, — а потом пустыня, все время в бегах, вечно в страхе. Но ты всегда был со мной, Андреас. Я молилась, чтобы однажды ты меня нашел.
— И теперь я тебя нашел и больше никуда от себя не отпущу. Я никогда никого так сильно не любил, Селена, как люблю тебя. Ты снова научила меня мечтать, снова научила надеяться. Ты вернула мне веру в себя, а потом исчезла, и все мечты и надежды разбились. Я снова ушел в море.
— Теперь мы снова можем мечтать, Андреас! Вместе! Мы снова можем начать с того места, где мы остановились в гроте. Ты будешь сочинять свои трактаты, ты будешь обучать, а я…
Они снова слились в поцелуе, и всю жестокость их разлуки смыло слезами. Андреас повел Селену в ту часть дворца, где он жил.
ВОСЬМАЯ КНИГА
РИМ
59
Тут он и стоял. Домус Юлии, приют для больных и страждущих.
Императрица Агриппина подняла занавес своего паланкина ровно настолько, чтобы видеть происходящее, не будучи самой замеченной. Она приказала остановиться на левом берегу Тибра, чтобы понаблюдать за тем, что делается на острове, где строился Домус Юлии. «Эта женщина, — думала она в эту минуту, — очень дерзка, она назвала это произведение глупости именем одного из старейших и благороднейших родов Рима. А Клавдий согласился».
Агриппина вцепилась в занавес.
Она точно знала, что замышляет Селена, — то, что она взяла это имя, было достаточным доказательством ее честолюбивых планов. Именем Юлия Селену назвал народ пять с половиной лет назад, в день праздника реки. Какой покорной казалась Юлия после того, как спасла жизнь Британнику. Как скромно принимала она преклонение плебеев! Но Агриппина знала правду. Она знала, что Юлия Селена так же решительно стремилась к власти над Римской империей, как и она сама, Агриппина.
С тех пор как она после убийства Мессалины четыре с половиной года назад стала супругой Клавдия, Агриппиной двигало лишь одно честолюбивое устремление — стать матерью императора. Она добилась того, чтобы стать женой Клавдия, чтобы ее провозгласили его законной супругой, она смогла убедить Клавдия усыновить ее сына Нерона, что делало того престолонаследником, так как он был старше Британника. Каждого, кто мог угрожать планам Агриппины, устраняли. Она позаботилась о том, чтобы ее сын был единственным живым потомком объединенного рода Юлия и Клавдия, после смерти Клавдия у народа не останется другого выхода, кроме как принять его в качестве правителя.
Но теперь, кажется, появилось новое препятствие.
Агриппина пристально наблюдала за деятельностью, развернувшейся на острове. Строители, каменотесы, шлифовальщики мрамора, ремесленники и зодчие — все копошились на территории храма, как пчелы. Безмозглые трутни, думала Агриппина, которые роятся вокруг своей августины. А где же «ее высочество» в это утро?
Агриппина приоткрыла занавес чуть пошире и бегло осмотрела каждый уголок острова.
В его южной части стоял старый скромный храм Эскулапа, окруженный теперь садами и небольшими пристройками — складами и курильнями, которые Юлия Селена превратила во временный приют для больных. Над всем этим возвышался недостроенный Домус с его величественными гранитными колоннами и мраморными арками, позволявшими судить уже сейчас о его будущем величии и о том, что это строение затмит все остальные шедевры Рима — как театр Марселя, так и храм Агриппы.
Дом для больных!
Агриппина дала носильщикам знак поднести ее поближе к берегу реки. Она надеялась увидеть Юлию Селену и собственными глазами убедиться в том, что сведения, которые ей передали, соответствуют действительности.
Со своего нового места Агриппина видела садовые дорожки и все еще по-зимнему голые кусты. Но скоро остров посреди старой мрачной реки расцветет подобно божественному саду. Это работа Юлии Селены. Агриппина не могла припомнить, чтобы остров был когда-нибудь чем-то большим, чем позорное пятно. За пять с половиной лет Юлия Селена превратила его в райское место.
Удалось ей это только благодаря новому указу Клавдия, изданному сразу после праздника на реке; по этому указу каждый раб, брошенный на острове и исцеленный, должен быть освобожден.
Последствия были очевидны, и они не замедлили проявиться. Никто не смел нарушать указ императора, и вдруг люди снова начали уважать старый остров. И рабовладельцы поняли, что выбрасывают на ветер большие деньги, оставляя рабов на острове, если им придется освобождать их после излечения.
За одну ночь пришел конец этому дурному обычаю — отправлять непригодных более рабов на остров. Число нуждающихся в помощи резко сократилось, храм и пристройки постепенно опустели, и остров начал восстанавливаться. Золото богатых дарителей, желавших убедить императора в своей преданности, потекло на остров, стены и крыши восстановили, разбили сады и построили фонтаны.
Нуждающиеся в помощи снова пошли сюда, а вместе с ними и врачи из города. Все говорили, что боги вернулись на остров, и за его возвращение следовало благодарить только внучку божественного Юлия Цезаря.
Римляне были благочестивы и суеверны, они чтили старые традиции, боялись богов и почитали предков. Это и объясняло популярность Юлии Селены. Всегда готовый избрать себе героя, которого можно обожествить, народ Рима возвел Юлию Селену в кумиры — и не только из-за ее происхождения, но и за ее «хорошие дела».
Агриппина так сильно вцепилась в занавес, что чуть не разорвала его. Как же люди не видели игру Юлии Селены? Приют для больных, ради всех богов! Где они могли оставаться столько, сколько нужно и пользоваться уходом обученных сиделок. Во всем мире нет больше другого такого заведения. Это была хитрость, в этом Агриппина не сомневалась, этот остров-приют и это непристойное строение с устремленными в небо колоннами служили только для того, чтобы обеспечить Юлии Селене место в сердцах людей.
Чтобы ее сын, а не мой стал следующим императором!
Наконец она ее увидела. Белая льняная стола, платок, хорошо знакомый ящик из эбенового дерева через плечо выделяли ее. Юлия Селена вышла из маленького каменного домика и направилась по тропинке в северную часть острова. За ней по пятам следовала ее «тень» — Пиндар, слабоумный, появившийся в один прекрасный день на острове и с тех пор никогда не покидавший Селену.
Агриппина присмотрелась повнимательнее. Когда Юлия Селена приблизилась к Домусу, мужчины бросили работу и поприветствовали ее бурными возгласами. Изменчивый мартовский ветер, подувший с запада, вдруг резко изменил направление и, шипя, подул на запад. Он подхватил паллу Селены и высоко поднял ее, так что стал виден ее округлившийся живот.
Агриппина опустила занавес. Она увидела достаточно. Все верно. Юлия Селена беременна.
Только велев уносить ее паланкин от берега реки, она была в состоянии размышлять. В минувшие пять с половиной лет Юлия Селена не представляла для нее угрозы, но теперь она стала опасной. Агриппина знала, что делать. Ребенок Юлии Селены и Домус не должны уцелеть.
60
Каждый раз, заходя к Паулине, Ульрика пыталась убедить себя, что идет не ради Эрика. И когда они встречались, она, глядя ему в глаза, как будто старилась не замечать, что ее сердце начинало вдруг бешено колотиться. Ульрика готова была признать, что семь лет назад, когда ей было двенадцать, она испытывала к Эрику своего рода сестринскую симпатию, но о любви, вероятно, не могло идти и речи. Это было совершенно невероятно.
Ульрика часто заходила к Паулине. Дом, где жила она со своей матерью и Андреасом, своим отчимом, находился неподалеку, она приходила, потому что любила маленького Валерия, как брата. Она помогала ему в учебе, она играла с ним, каждый давал другому то, чего другому в жизни не хватало.
Она нашла Валерия в перистиле, где он сидел и ждал прибытия первых гостей, приглашенных в этот вечер Паулиной на большой праздник. Ульрика подкралась к нему сзади, схватила и подкинула его высоко в воздух; Валерий вырывался и бешено болтал ногами.
— Ух, мой маленький братишка, — задыхаясь, воскликнула Ульрика и опустила его, — слишком уж тяжелым становишься ты для этих игр. Тебе ведь уже шесть лет, настоящий большей мальчик.
Но когда она хотела выпрямиться, Валерий еще крепче свел руки у нее на шее.
— Не уходи, Рикки, — попросил он.
Она опустилась перед ним на колени и убрала прядь волос с глаз, которые умоляюще смотрели на нее из-под сведенных бровей.
«Чего он всегда так боится?» — думала она.
Паулина была хорошей матерью, но у нее было слишком много дел, и она не всегда видела, в чем нуждался малыш. Ульрика вспомнила, что и сама в детстве частенько чувствовала себя одиноко, чувствовала, что она путается под ногами у взрослых.
— Не лучше ли будет, если я пойду на праздник, Валерий?
— Ну, против праздника я ничего не имею, Рикки. Я только не хочу, чтобы ты выходила замуж за Друса.
Лицо Ульрики омрачилось. В такие минуты эти двое были похожи на брата и сестру, два юных лица, которые походили друг на друга из-за своей мрачной серьезности, как зеркальные отражения. Но через мгновение Ульрика снова улыбалась.
— За кого бы я ни вышла замуж, братишка, — бодро сказала она, — ты всегда сможешь приходить ко мне.
— Да, но тогда я не смогу жить вместе с тобой.
— Но ты ведь и сейчас не живешь со мной.
Валерий сделал задумчивое лицо. Она права, и все же это нечто другое. Рикки жила через несколько домов от него и приходила почти каждый день. Он чувствовал, что все изменится, если она выйдет замуж, он только не знал точно как.
— Тогда у тебя скоро появится собственный маленький мальчик, и ты забудешь меня.
— Но, братик! — Она взяла его на руки и прижала к себе. — Что за мрачные мысли!
И все же отрицать этого она не могла. Не важно, за кого она выйдет замуж, она уедет, и — во всяком случае, она надеялась на это — у нее будут свои дети.
Ульрика вдруг рассердилась на Паулину. Она не должна была говорить о таких вещах в присутствии мальчика. Хотя бы потому, что Ульрика не имела ни малейшего намерения выходить замуж за Друса. Мысль об этом была столь же нелепа, как и мысль о том, что она могла любить Эрика.
Провожая Валерия из внутреннего двора в детскую, Ульрика думала о Друсе. Он был красивым молодым человеком из древней и богатой семьи. С честолюбивыми планами на будущее. В отличие от всех остальных почитателей, добивавшихся руки Ульрики, он был еще молод — ему было всего двадцать три. Для него, как и для других претендентов, не имело значения то, что Ульрике было уже девятнадцать — довольно много по римским меркам для незамужней женщины. Мужчины были готовы закрыть глаза на ее возраст, ведь брак с Ульрикой сулил им множество преимуществ — она была красива, у нее было солидное приданое, и происходила она из самого лучшего рода. Ульрика действительно принадлежала к кругу самых желанных невест Рима.
Но как она могла объяснить своей матери и Паулине, что она совсем еще не готова к браку, что она ощущала, как ее распирает какая-то необъяснимая неуемная энергия, которой нет названия? После своего двенадцатого дня рождения, тогда, в Александрии, Ульрика начала ощущать в себе этот огонь, рвущийся на свободу.
Но свободу от чего? — спрашивала она себя, заходя в комнату Валерия, где их ждала няня.
Она чувствовала, что одержима, но не знала чем. Огромная жажда деятельности, ощущаемая ею, была неутолимой. Она с удовольствием работала на острове, помогая матери, но чувствовала себя в Риме будто в оковах, как когда-то в Александрии. Чего же она хочет? Может быть, она хочет пойти по стопам матери и бродить по свету с аптечным ящиком на плече?
Может быть, однажды это откроется мне, думала Ульрика, уговаривая Валерии съесть что-нибудь. Как открылось моей матери. Может быть, уже скоро…
Ульрика смотрела на улицу через окно детской. Она видела фруктовую плантацию, раскинувшуюся на склоне холма за виллой. Апрельское солнце заливало своим светом деревья, и сердце Ульрики вдруг бешено заколотилось.
Она подумала об Эрике и о тех днях, когда она со своей матерью еще жила у Паулины, когда вечерами она тайком прокрадывалась в сад, чтобы дать Эрику урок греческого и поучиться у него родному языку. Как робки и неуверенны были они тогда! Сидя под лимонными и апельсиновыми деревьями, они обменивались словами на своих родных языках, Ульрика царапала на земле палкой буквы и учила Эрика читать на его языке. Неуверенность сменилась со временем доверием, когда учеба им наскучивала, они играли. Эрик дразнил Ульрику и дергал за косы, Ульрика подсмеивалась над его голосом, который еще не нашел верную тональность, над пушком, появившимся над его верхней губой. Они носились по саду и кидались друг в друга гнилыми фруктами. Это были счастливые и легкие времена.

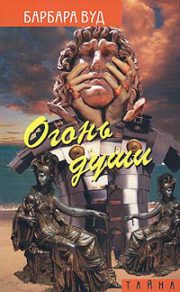
"Огонь души" отзывы
Отзывы читателей о книге "Огонь души". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огонь души" друзьям в соцсетях.