Своей любовью она даровала мне свободу. Свободу быть самим собой. Серьезно.
Когда-то давно у меня была мечта попытаться что-то написать или даже стать литератором, но мне не хватило пороху заняться этим всерьез. Роуз заставила меня поверить в себя, в то, что если я возьмусь за это основательно и выкрою время, то у меня все получится, я смогу стать писателем. Она видела во мне не только того, кто я есть, но и того, кем мог бы стать. Своей любовью она вселила в меня веру, что все задуманное обязательно осуществится.
Вот почему теперь мне невыносимо тяжело и я держусь из последних сил.
Потому что тогда, пусть совсем недолго, я был по-настоящему счастлив.
Старик-китаец заканчивает свой плавный, парящий танец.
Когда я во второй раз пробегаю, точнее, медленно шаркаю мимо него, он смотрит на меня так, словно видит уже в сотый раз. Как будто тоже узнает меня.
Он снова обращается ко мне, и на сей раз я прекрасно понимаю, что он говорит. Это вовсе не «дыхни» и не «отдохни».
— Дыхание, — произносит он.
— Что-что? — спрашиваю я, с трудом переводя дух.
— У тебя неправильное дыхание.
— У кого?
— У кого? — хмыкает он. — У тебя, у кого же еще? Неправильное дыхание. Очень часто ты дышишь. Не верно. Нет дыхания — нет жизни.
Я изумленно таращусь на него.
«Нет дыхания — нет жизни». Кем он себя мнит? Очередным гуру, несущим просветление всему человечеству?
— Это что? — наконец раздраженно спрашиваю я. — Какая-то древнекитайская мудрость?
— Нет, — отвечает он, — не мудрость. Просто здравый смысл.
И он отворачивается, как бы отпуская меня. Урок окончен.
На обратном пути я стараюсь дышать правильно. Глубокий вдох полной грудью, дыхание задержать, медленный выдох. Снова и снова. Вдох-выдох. Ритмично, не спеша. Расшвыривая прошлогодние листья, я буквально заставляю себя сделать очередной вдох.
Это безумно тяжело.
Она была для меня смыслом жизни. И вот ее не стало.
2
Где и когда рождаются мечты? Я думаю, в детстве. Именно тогда я захотел стать писателем. Совсем неплохо для детской фантазии, тем более что у каждого человека их великое множество. Со временем фантазии забываются, а вот мечта остается.
Мой отец работал спортивным обозревателем в одной крупной газете. Обычно он освещал скачки, футбол и бокс, то есть то, что знал и любил с детства, проведенного в Ист-Энде. Во время олимпиад он писал о легкой атлетике, когда проходили Уимблдонские турниры — о теннисе и обо всем понемногу, если в том возникала необходимость. В конце своей журналистской карьеры он даже написал серию очерков о современных борцах, этаких гигантах со злыми глазами и насупленными лицами, облаченных в сверкающий латекс и смотревшихся так, будто им нужны отнюдь не стероиды, а преподаватели по этикету и актерскому мастерству.
Мой отец не принадлежал к когорте маститых журналистов. В большинстве случаев его колонки и репортажи печатались даже без фото автора. Но для меня он всегда был фигурой романтической, окутанной каким-то загадочным ореолом. Отцы моих друзей трубили на одном и том же месте каждый день от звонка до звонка. Мой же разъезжал по всей стране, брал интервью у кумиров миллионов болельщиков, и, хотя мы с мамой порой неделями не видели его, меня всегда восхищало то, что он гордился своим «ненормированным» рабочим днем.
Еще ребенком я твердо усвоил, что журналистика — это не только слава, почет и известность, но и каторжный труд, скандалы, а порой и унижения. Я уяснил, что каждый раз над журналистом дамокловым мечом нависает срок сдачи номера, что замредактора может в любой момент выбросить из твоего материала последние строки и что сегодняшняя сенсация назавтра становится либо макулатурой, либо — как это ни печально — подстилкой для кошачьего туалета.
И все же отец, казалось, при любых обстоятельствах пользовался полной духовной свободой. Его никогда не привлекала рутинная, пусть и престижная, репортерская работа — сидеть в пресс-ложе на дерби в Эптон-парке или, скажем, диктовать прямо в номер, стоя возле ринга во Дворце бокса в Бирмингеме. Но когда отцу удавалось пробить материал о реальных людях, стоявших за показателями и рекордами, когда он писал о блестящем молодом футболисте, чья карьера оборвалась на взлете из-за травмы колена, или об олимпийской надежде с внезапно обнаруженной опухолью в груди — это действительно брало за душу. Уж он-то знал, чем и как взять читателя за живое. Подобные статьи действительно никого не оставляли равнодушным.
Отец не стал выдающимся спортивным журналистом лишь потому, что никогда не был помешан на спорте. Его карьера сложилась бы куда более успешно, пиши он для первых полос газет, а не для последних.
Но он являлся величайшим моим героем, и многие годы я страстно желал стать продолжателем, так сказать, семейного дела.
А потом отец написал книгу. Вы наверняка слышали о ней. И может, даже ее читали. Дело в том, что «Апельсины к Рождеству, или Родом из детства» относятся к той категории книг, которые, однажды обретя шумный успех, уже никогда не исчезают с полок книжных магазинов. После подобного успеха все мои помыслы о писательстве стали казаться нелепицей. Ибо как и в чем я теперь мог бы тягаться с отцом? Я восхищался им, когда он был более-менее способным репортером, и пришел в ужас, когда он стал модным писателем и автором бестселлера.
Когда у отца вышла книга, я учился в педагогическом колледже и наблюдал за его восхождением к вершинам славы как бы со стороны. Казалось, что он в одночасье превратился из журналиста, денно и нощно дежурившего у дверей раздевалок или на тренировочных базах в надежде на «эксклюзивное» бормотание двадцатилетних футболистов, зашибавших бешеные деньги, в популярного писателя с многомиллионными гонорарами, которого наперебой приглашали в интеллектуальные ток-шоу и стоя приветствовали в ресторанах.
Уж кому, как не мне, было знать, что на самом-то деле все произошло совсем не так просто. Книга эта писалась долгие годы. Любой успех видится со стороны как что-то необычайно легкое; при этом горы «творческой породы» и «стружки» остаются «за кадром». Складывалось впечатление, что мой отец в мгновение ока превратился из никому не известного спортивного обозревателя в уважаемого литератора, который выступал на творческих вечерах в престижных книжных магазинах, где читал вслух избранные места, отвечал на вопросы и подписывал свои книги всем желающим. И теперь, десять лет спустя, люди трепетно хранят его автографы, подобно фанатам, дневавшим и ночевавшим у порогов тренировочных баз в надежде на «откровения» двадцатилетних футболистов с безумными гонорарами.
«Апельсины к Рождеству, или Родом из детства» — замечательная книга, которая мне очень понравилась. Я вовсе не жалел, что она несколько омрачила мои детские наивно-радужные мечты о писательском ремесле. И успех ее был вполне заслуженным.
Книга представляет собой некие «мемуары», воспоминания отца о его детстве, проведенном в Ист-Энде. В ней говорится о том, что жили они бедно, но очень дружно и счастливо. Каждый раз, когда отец вместе с кучей своих братьев и сестер получали к Рождеству по апельсину, они чуть не умирали от радости и восторга.
По страницам «Апельсинов» бегают стайки чумазых сорванцов, пуляющих по крысам в недавно разбомбленных кварталах, в то время как по соседству вовсю орудуют «юнкерсы». Здесь на каждом шагу смерть, утраты, болезни и продуктовые карточки, но секрет успеха книги в том, что она дарит людям то же ощущение успокоения и душевного комфорта, что и чашка горячего сладкого чая с любимым молочно-шоколадным печеньем. Несмотря на обилие соленых и порой двусмысленных шуточек и баек о болячках, вшах и «фрицах», через книгу моего старика красной нитью проходит грустная, сентиментальная ностальгия по той семье и по тем отношениям, которых теперь нет и в помине.
Самое забавное заключалось в том, что среди отцовской родни «Апельсины к Рождеству» произвели эффект разорвавшейся немецкой фугаски. Когда вышла книга, братьям и сестрам отца перевалило далеко за сорок и они стали весьма уважаемыми людьми. И тут вдруг их похождения и проделки четвертьвековой давности предстали перед глазами почтеннейшей публики.
Старшая из сестер, моя тетушка Джанет, была далеко не в восторге от того, что автор поведал «по секрету всему свету», как их папа застукал ее, тискающуюся с американским солдатом сразу после отбоя воздушной тревоги. В книге это подано в иронично-анекдотичном ключе типа «ковбой всегда успеет», однако в тетушкиной Ассоциации по охране материнства и детства, где она по сей день возглавляет отдел массовых мероприятий, подобное «откровение» произвело самый настоящий фурор.
Мой дядюшка Реджи тоже был вне себя, когда впервые увидел «Апельсины к Рождеству». Управляющий по графствам в одном из солиднейших банков, он счел, что отец зашел слишком уж далеко, повествуя о том, как насмерть перепуганный четырехлетний Реджинальд во время очередной бомбежки рванул в убежище, да только не успел и со страху сделал «неприличность» прямо в саду; спасибо, что штанишки успел стянуть. Дядюшка громко возмущался, что подобный имидж, да еще с учетом нынешней ситуации на рынке, в корне подрывает как репутацию банка, так и его собственную.
Существовал еще дядя Пит, по книге уже подросток, чьи героические подвиги на черном рынке заключались в том, что многие одинокие женщины, мужья которых были на фронте, стали счастливыми обладательницами нескольких пар нейлоновых чулок в обмен на то, что сам дядюшка называл несколько таинственно: «чайку вскипятить». Дяде Питу — ныне более известному как отец Питер — пришлось много чего объяснять и разъяснять своим недоумевающим прихожанам.
«Милые утехи» тети Джанет с новобранцем, «детская неожиданность» дяди Реджи под бомбами, «бартерные сделки» дяди Пита — все это безумно нравилось читателям. Благодаря «Апельсинам к Рождеству» все искренне полюбили моего старикана. Все, кроме его братьев, сестер и тех, с кем он жил и рос по соседству.
Они с ним больше не общаются.
Когда возвращаешься на родину, пожив за границей, то видишь окружающее взором путешественника во времени.
Я не был дома чуть более двух лет, с весны 96-го по лето 98-го. Вроде бы совсем недолго, но теперь мне кажется, что время словно сместилось. Конечно же, огромная роль в этом принадлежит Роуз. Уезжая, я даже не подозревал о ее существовании: вернувшись, и представить себе не могу, как стану жить без нее.
Что же касается ощущений, то дело тут не только в Роуз. Как-то все не так, когда я еду в отцовской машине, просматриваю газету, ужинаю с родителями. Не в ноту, не в такт, не в лад, невпопад.
Во-первых, в нашем квартале появились беженцы. Это что-то новенькое. Я смотрю на них из отцовского «мерседеса SLK» — полуспортивной двухместки с откидным верхом. А они, в свою очередь, пристально рассматривают меня. И немудрено: ведь небольшой красный кабриолет моего старика просто призван приковывать к себе взоры людей; впрочем, вовсе не обязательно, чтобы он вызывал испытующие взгляды тех, кто совсем недавно бежал от нищеты и преследований.
Когда я уезжал, беженцев, тем более с Балкан, здесь и в помине не было. Забредет иногда пьянчужка с бутылкой за пазухой, вот тебе и все пришлые. Теперь же худые мужчины и мальчишки роятся в транспортных пробках на перекрестке у Кингс-Кросс, брызгая на стекла машин и неистово соскребая с них грязь и копоть, даже когда их об этом не просят. Беженцы показывают на свои открытые рты какими-то смутно напоминающими непристойность жестами. На самом же деле они просто хотят сказать, что голодны.
Вот такие тут новости. И дело не только в беженцах.
Терри Боуган вовсю крутит «R. Е. М.» на «Радио-2». О принцессе Диане вспоминают все реже и реже. Но самое потрясающее, наверное, то, что отец мой стал посещать тренажерный зал.
Мне все это кажется просто невероятным. Я всегда считал, что Воуган являлся спецом по «легкой музычке», хотя вполне возможно, за мое отсутствие «R. Е. М.» и перешли в данную категорию. Я был уверен, что Диана останется столь же блистательной и после смерти. И уж совсем у меня не укладывалось в голове, что мой старикан вдруг столь трепетно озаботится своей физической формой.
Майкл Стайп — вокалист «R. Е. М.» — вдруг с воем врывается в «легкую музычку». Диана прочно вошла в историю. А мой старик и думать забыл о курах гриль под пряным соусом и все твердит о неоспоримых достоинствах лечебной физкультуры как панацеи от инфарктов и инсультов.
Иногда мне кажется, что я вернулся совсем в другую страну.
Сейчас я живу у родителей. В тридцать четыре года и без своего гнезда — вот уж действительно, как говорится, совсем невесело. Одно утешает: это не тот дом, где я родился и вырос; так что теперешняя моя жизнь с родителями вовсе не означает, что я окончательно впал в детство. Иногда, правда, бывает. Особенно когда мама подает мне выстиранную и отглаженную пижаму.

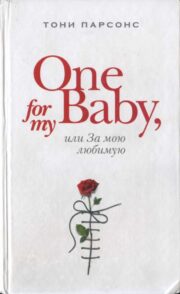
"One for My Baby, или За мою любимую" отзывы
Отзывы читателей о книге "One for My Baby, или За мою любимую". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "One for My Baby, или За мою любимую" друзьям в соцсетях.