Но самое главное, ко мне приходил врач и лечил меня на совесть. Уколы, таблетки, обезболивающие препараты, витамины. Причем в огромном количестве. Я ел их горстями, впрок. Я знал, что делаю. У меня было очень мало времени.
Трудно сказать, сколько прошло – пять дней, шесть или неделя. Я потерял счет суткам и часам. Старался больше спать. Пил таблетки, коньяк и забывался сном.
Но очень скоро этот отпуск закончился. Стволы-то незасвеченные были, и я это хорошо знал. И знал, что экспертиза это покажет. Вот она и показала.
На Терехине лица не было. Вернее, оно было, но такое страшное, что слов не хватит его описать. Он орал, как потерпевший, до синевы и слюней, и в его речи не было ни одного печатного слова. Еще бы! Он неделю поил и кормил меня, лечил и дал возможность отоспаться, и в ответ такая черная неблагодарность!
А еще после этого «санатория» со мной что-то случилось. Если раньше мой болевой порог позволял им молотить меня долго до потери сознания, то теперь я отключался после двух ударов. А бить меня такого им было совсем неинтересно. Какой смысл пинать безжизненное тело?»
Илья не спросил у Ольги, знает ли она, что это такое – загонять иголки под ногти. Сам он читал про эту пытку, но никогда не думал, что ее могут применять в наши дни. Это в голове не укладывалось, и если бы кто-то рассказал, то Илья, скорее всего, решил бы, что это горячечный бред сумасшедшего.
Не бред. Но он не доставлял своим мучителям большого удовольствия, так как его организм мгновенно отключался и на боль не реагировал.
Не рассказывал он ей и про еще одну милицейскую «забаву». Казалось бы, совсем невинная забава, но она доставляла ужасные страдания. На руках узника застегивали наручники. Но не на запястьях, а выше, ближе к локтю. Руки начинали затекать, а пальцы превращались в синие сосиски и произвольно сжимались в кулаки. Вот тут современные инквизиторы и приступали к изощренной пытке. Они разгибали пальцы. Казалось бы, что тут такого? Но из-за отечности рук сделать это было невозможно, и ощущение было такое, будто из тебя выдирают жилы…
Обо всем этом Илья умолчал в своих письмах. Такие ужасы не для нежных женских ушек. Ему казалось, что он и так убедительно рассказал ей, кто был кем.
В прокуратуре Илью Покровского продержали восемь дней, после чего отвезли на Лысую гору – это название тюрьмы харьковской. В подвал, в одиночку, его бросили в ужасном состоянии: уши болели из-за поврежденных барабанных перепонок, почки были отбиты, ребра, рука и нога сломаны. Но это не останавливало оперов, которые регулярно вытаскивали заключенного из его норы-одиночки, чтобы выбивать признания.
А он молчал.
После одного из таких допросов, опер обреченно сказал ему:
– Ну ладно! Хватит с тобой нянькаться! В «петушатник» пойдешь, там из тебя послушную девочку сделают!
Не надо никому, наверное, объяснять, что такое «петушатник». И Илья хорошо понимал, что ему несладко там будет. Сил у него не было совсем.
В этот же день его вытащили из одиночной камеры и впихнули в другую. В ней были нары в три этажа и пять человек сидельцев. Один из них спрашивает Илью: мол, кто такой?
А он, как зверек, в ответ:
– Я с «петухами» не разговариваю!
Тот, кто, похоже, был главным у них, говорит ему:
– А с чего ты взял, что тут «петухи»?! Тут нормальные люди сидят!
И предложил воды – Илья ведь в крови весь был, как баран.
Но воду не взял, опять на дыбы встал. «Не подходи, – говорит. – Я кусаться буду!» Больше-то он ничего не мог сделать. Сил не было, на четвереньках в углу стоял, даже подняться в полный рост не мог.
Вот так, в противостоянии, часа четыре провел. Огрызался, как волчонок, хотя в голове уже мысль бродила, что что-то намутили опера, развели его. Потому что если б хотели, то такого болезного тут давно бы уже «опустили», а его никто не трогал.
Когда время обеда пришло и на дверях скрипнула дверца «кормушки», он баланд ера спросил, в какой камере находится.
– Смертники тут…
Но Покровский правило «Не верь» уже хорошо усвоил. Не поверил! Ночь не спал. А утром его в ШИЗО бросили, в подвал, где он провел девять месяцев.
«Оля, мир не без добрых людей, и там они тоже были. Медсестра одна жалела меня, обезболивающих препаратов подкидывала. Только просила язык за зубами держать. Перевязывать меня было нельзя, сразу бы заметили, а таблетки помогали держаться. И в один из таких визитов с таблетками она мне сказала:
– Что ж ты так непочтительно с Фирсом обошелся?
– С кем?
– С Толиком Фирсом. Это камера, в которой ты был последний раз.
Имя это я слышал и про Фирса слышал только хорошее. Но в глаза его никогда не видел. Откуда мне было знать, что это он? Я ведь не сомневался, что по милости оперов попал в «петушатник»?
А между тем мне нет-нет да стали приходить передачки. Оказалось, от него, от Толика Фирса. Потом жизнь столкнула меня с ним несколько раз, и я убедился в глубокой порядочности этого человека. Сам порой сидел на безрыбье, но из общего никогда ничего не брал. Как-то раз я был свидетелем, как он передавал чай и сигареты одному опущенному. Человечишко никчемный был, трус и стукач. И я спросил Толика: мол, ему-то за что грев, ведь не заслужил? На что Фирс мне ответил:
– Если в ШИЗО или на пожизненное готовится, надо помогать даже опущенным.
Вот такое отношение к людям у него было. А в конце девяностых Фирса короновали. Я потом часто вспоминал, как попал к ним, как не доверился, «петухами» называл. Спасибо ему, он все понял. Он просто людей видел. Видит…
А авторитет вора в законе держится на справедливости, а не на том, какие «подвиги» прописаны в его биографии. И я убежден, что такие авторитеты не дают криминальному миру скатиться в пропасть, называемую беспределом.
Или мне так повезло, или так оно и есть, но я не видел в миру людей более чистых, чем там…»
«…Коль зашел разговор о разных людях, волею судьбы попавших туда, то расскажу тебе еще один эпизод.
Как я уже говорил, меня ломали со страшной силой. Всеми возможными способами. Как-то раз скомандовали «с вещами на выход». Ну, какие у меня вещи?! Меня же на квартире у Виктории взяли в одном спортивном костюме и тапочках. Тапочки я быстро износил. Спасибо по случаю подкинули мне ботинки с чужой ноги да трусы с носками. Но те всегда на мне были. Постираю, подсушу и снова надену. Так что всех вещей было щетка зубная, ложка и носки запасные.
По пути мне шепнули: мол, в камеру к Борману закидывают. «Бойся!»
Впихнули в хату, маленькую совсем. В ней шесть арестантов, накачанные все, молодые да здоровые. А во мне тогда, дай бог, пятьдесят кэгэ веса живого. Да и живого ли?..
Тот, которого Витей Борманом звали, осмотрел меня, как удав кролика, перед тем как его съесть, и говорит:
– Что со здоровьем у тебя? Что кривой такой?
– Нога сломана, – отвечаю. – И рука тоже.
– А вещи твои где?
– А вот все! – показываю ему щетку, ложку и носки. – Без чемодана я!
Борман посмотрел на меня с сомнением.
– Ты в курсе, что тебя сюда закинули, чтоб я тебя убил?
– Догадываюсь…
– А я хоть и беспредельщик, но рука не поднимается. Что убивать-то тут? – не меня спросил, сокамерников. Те в ответ понимающе покивали. – А я оперу обещал… – Витя почесал за ухом в глубокой задумчивости и вынес вердикт: – Знаешь, что сделаем… Как зашел ты в хату, так и выходи.
Выломиться мне предложил. Помнишь комедию «Джентльмены удачи»? Вот там громила, который в дверь тарабанился и кричал, что «хулиганы зрения лишают», так это он «выламывался из хаты», то есть испугался и привлекал к себе внимание охранников. По понятиям, это косяк. И коль уж занесла меня нелегкая на тюремные нары, жить я собирался так, чтобы не было стыдно. А за такой косяк потом жизни в тюрьме не будет. Ни почета тебе, ни уважения. Поэтому я сразу Борману сказал, что выламываться не буду.
– Бей!
Он посмотрел на меня с сожалением, – я ж и так полуживой, и ветром качает, и вдруг говорит:
– Жрать хочешь?
Жратвы у них в хате было как на хорошем продовольственном складе. В углу – мешок с сахаром, на окне – сало-мясо-консервы, на столе – конфеты с печеньем. У меня от этого изобилия голова и так кружилась. Сглотнул голодную слюну, а сам третье правило хорошо помню – «Не проси!»
Накормили меня, с собой сумку продуктов собрали. Вечером Борман корпусному сказал:
– Забери его завтра от нас, в нормальную хату. А я оперу все сам объясню. Я хоть и беспредельщик, но не до такой же степени! Сделаем так, будто тебя просто перевели.
Так, собственно, и вышло. Перевели меня».
Но на этом история не закончилось. Кое-кому спалось плохо от мысли, что Илья Покровский не сдох от всего этого, и определили его в пресс-хату, в которой сидели два «особика». В то время в тюрьме было четыре режима – общий, усиленный, строгий и особый. Тех, кто попадал на особый режим, и называли «особиками», или еще «полосатыми» – из-за костюмов в полоску и с «вышаками» в перспективе.
Илью предупредили, что ждут его в пресс-хате два «особика». «Будь осторожен!» – посоветовали тихонько.
– Кто такой? – был первый вопрос, едва он вошел в камеру.
А Илью тогда уже все знали в тюрьме как питерского. Вот он и ответил: мол, питерский я.
– Что-то такого не знаем, – разыгрывали далее свой спектакль сидельцы.
Илья же уставший был. Где, спрашивает, лечь можно? В хате той шконки в три этажа. Первый этаж, понятное дело, этими двумя блатными занят. На втором – одно место свободно. Покровский туда и лег. И тут же уснул.
Сквозь сон слышит, еще кто-то вошел в камеру. Зашептались внизу.
– Ты гони этого «на пальму», а сам на его место, – советуют «особики» тому, кто заехал. «На пальму» – это значит на третий ярус, на самый верх. Унизить хотят таким образом.
Илья почувствовал, как его толкают в бок:
– Слышь, ты… питерский! Вали-ка на пальму!
Ну, на это он вновь прибывшего самого на пальму послал. Завязалась перепалка. Илья, конечно, сразу понял, что все это специально было придумано, и открытым текстом спросил:
– Чего хотите от меня?
Ему и говорят: мол, в хате у Бормана и жив остался – с чего бы?! И начали бить. Хата маленькая, развернуться в ней не получается. Илья забился под раковину, но сразу понял, что надолго его не хватит – запинают. И тогда он выхватил миску из нержавейки – была у него уже такая в личном имуществе. Миска не простая, а с секретом: у нее ручки были заточены, как лезвия. Это Покровский, пока один в хате сидел, заточил о камень. И вот этой миской он, как ножом, одному раскроил грудь, а другому – лицо. Крови в хате – как на скотобойне! Охранники понимают, что внутри что-то происходит, но камеру открывать не спешат. Когда открыли, очень удивились. Думали, наверное, там Илью-смертника холодным найти, а тут два «особика» с резаными ранами, истекающие кровью.
Покровского из пресс-хаты прямиком в подвал, где он просидел одиннадцать дней. Потом опер пришел, по душам говорить начал. Что, мол, делать с тобой? Уголовное дело возбуждать?
Илья ему в ответ:
– Не бросай больше в пресс-хату! В противном случае у меня выхода нет: буду резать! Или загрызу кого…
Опер, видимо, понял, что терять Илье больше нечего и он не шутит.
А какие шутки? У Ильи ко всем его проблемам еще одна прибавилась: он заработал язву желудка. Еще б ее было не заработать! Баланда – это не диетпитание! Вода с жиром и крупой. Две недели такого «питания» – и получите дикие боли.
«Оля, ты спрашивала, как кормят… Я скоро понял, что сдохну от такой пищи. Но другой не было. Мне посылок не приходило, денег на покупку пропитания не было. Родители тогда не знали ничего обо мне. Сирота голимая! Да еще и в чужой стране.
И вот стал я для себя из того, что есть, придумывать диету. Тогда уже зима наступила, в камере холодно было. Один угол промерзал так, что «борода» снежная вырастала в нем. И я придумал способ лечения и более удобоваримого питания.
Когда баландер давал миску с супом-баландой, я ставил его, чуть теплый, на холодный бетонный пол к покрытой инеем стенке. Минут через десять жир в супе застывал коркой на поверхности. Я снимал этот жир и выбрасывал в туалет. Затем промывал крупу, сливал «бульон» и ел едва проваренные зерна перловки.
Через две недели унитаз от жира забился так, что пришлось его палкой пробивать! Там словно пластиковый нарост образовался. Ну, в унитазе-то ладно! А что же я с желудком-то сделал?! К счастью, голодовка принесла хороший результат: еще через две недели такого питания от язвы и следа не осталось…»
На какое-то время Илью оставили в покое, и он стал потихоньку приходить в себя. Начал с зарядки, которую делал каждый день. Через силу со сломанной рукой отжимался от пола. Обливался холодной водой, благо недостатка в ней не было. Сломанную ногу туго бинтовал вместо гипса, и она стала заживать.

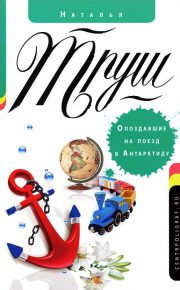
"Опоздавшие на поезд в Антарктиду" отзывы
Отзывы читателей о книге "Опоздавшие на поезд в Антарктиду". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Опоздавшие на поезд в Антарктиду" друзьям в соцсетях.