В Любиной коробке с фотографиями хранились несколько фотоснимков со съёмок запрещённого к показу фильма «Агония» про Гришку Распутина: потрясающие по силе кадры, где императрица припала головой к бронзовой спинке кровати и портрет Распутина-Петренко. Кстати, сама Люба мелькнула на экране в сцене гуляния в ресторане, она сидела на полу среди цыган.
Личность Распутина меня в то время сильно интересовала, особенно после публикации журнальной версии романа Валентина Пикуля «У последней черты». Исходя из рассказов Любы, я был уверен, что «Агония» показала последние дни Распутина почти документально. Да и про сцены бани с голыми бабами много был наслышан. Мог ли я предполагать, что буду однажды не только здороваться с Элемом Германовичем за руку, но сидеть в его кабинете на «Мосфильме», а он будет уговаривать меня сниматься в его фильме?
Дело было так. После долгого простоя Климов запустился с фильмом «Иди и смотри». Люба, увидев мою жену, решила, что столь красивая девушка не имеет права оставаться вне поля зрения кинокамеры, повела нас к Элему Климову. То был мой первый визит на «Мосфильм» и первое соприкосновение с настоящим кинорежиссёром. Обстановка в его кабинете была спокойная, почти умиротворяющая. Ни я, ни моя жена ничуть не нервничали, поскольку не претендовали ни на какую роль и вообще не собирались сниматься. Климов неторопливо рассказывал о будущем фильме, и было приятно слушать его. У него был красивый голос. А потом Ю вдруг задала ему вопрос: «Вы любите вестерны?» Он улыбнулся и ответил: «Нет, я люблю остерны». И посмотрел на меня. «Не хотите сняться у меня, Андрей? Не хотите попробовать себя в кино?» Я решительно отказался, довольно нагло заявив, что готов попробовать себя в качестве оператора. «Нет, оператор у меня есть», – покачал головой Элем Германович.
В то время я бредил вестернами и мастерил своё собственное кино – со стрельбой, драками и откровенными любовными сценами. Я видел себя кем-то вроде Клинта Иствуда – с небритым подбородком и с небрежно зажатым в зубах огрызком потухшей сигары. Понятно, что выныривать из мира шляп и револьверов ради фильма о белорусских партизанах мне не хотелось. «Вы всё-таки подумайте», – мягко настаивал Климов, и я обещал подумать, хотя твёрдо знал, что сниматься не стану. Сегодня я даже не представляю, почему он предложил мне пробоваться, потому что на главную роль я никак не подходил (если исходить из того, что он взял Кравченко), а Климов говорил со мной о главной роли. Когда мы собрались уходить, ассистент по актёрам просила подождать немного. Через пару минут она вышла и сказала Ю, что Климов хочет её на роль немки. О какой немке шла речь, мы не понимали. Ю не хотела играть, но Климов уговорил её сделать фотопробы. Вот тогда мы впервые попали в фотоцех, где Люба познакомилась с Сашей Шеко.
Так я прикоснулся к миру крупнейшего советского режиссёра, так я упустил мою возможную актёрскую судьбу, отказавшись ухватиться за хвост Птицы Счастья.
Второе моё появление на «Мосфильме» опять связано с Любой: она пригласила меня на закрытый просмотр фильма Иоселиани «Фавориты Луны». Впечатление от «Фаворитов» было сильным. Не потрясение, но очень глубокий след, в который я всматривался ещё долго-долго.
Люба умела удивлять. Нет ни одного человека, ни одной книги, с которыми она свела меня случайно. Всё имело глубокий смысл и своё развитие, особенно книги. Люба читала в основном эзотерическую литературу. Запрещённый в СССР Раджнеш ворвался в мою жизнь, как джин, выпущенный из Любиной квартиры. Первая его книга, попавшая в мои руки, называлась «Я – врата»; она привела меня в бешенство. Никак не мог я согласиться с логикой этого таинственного индийца. Он ломал всё моё представление о жизни, он выворачивал меня наизнанку, и я торопился к Любе, чтобы выплеснуть ей моё возмущение и призвать к ответу. Она пыталась объяснять, но безрезультатно. Раджнеша мог объяснить только Раджнеш. Требовалось время…
Потом я ушёл из Внешторга и разведшколы, сойдя с гарантированно-гладкой дороги, и растерянно остановился, не понимая, как жить дальше. Поиски творческой работы ничего не дали. Такой работы попросту не существовало. Для меня не существовало, потому что я хотел делать только Своё, а страна не желала, чтобы кто-то делал Своё. Это разрешалось только тем, у кого за спиной были соответствующие папы, мамы или очень хорошие друзья в высоких партийных креслах.
И тут объявилась Люба Урицкая. Она числилась в то время фотографом в Московском Хореографическом Училище, но ушла в декретный отпуск. «Иди в отдел кадров, скажи, что я направила тебя. Должны взять», – посоветовала она. И меня взяли на ставку лаборанта. Платили девяносто рублей. После двухсот пятидесяти рублей за лейтенантские погоны я почувствовал себя почти нищим, но – счастливым нищим, свободным. Что такое работа фотографа в МАХУ? Сплошное удовольствие, потому что работа обрушивалась со всей силой только в период экзаменов. Всё остальное время я был отдан себе.
Устроив меня на работу, Люба посвятила меня в свои алхимические тайны, а их оказалось много. И важнейшей из них был её собственный рецепт проявителя. Овладев им, я перескочил с любительского уровня на ступень хорошо вооружённого художника. Впрочем, вспоминать об этом сейчас, в век цифровых технологий, нет смысла…
Прошло несколько лет, и Люба собралась в Израиль. Она давно вынашивала планы, но мне всё казалось, что это только разговоры. И всё же она уехала. Мы мало переписывались, несколько раз разговаривали по телефону.
Так закончилась её жизнь в мире фотографий. Она иногда берёт в руки аппарат, но снимки получаются «домашними», для семейного альбома. А ведь были портреты, ставшие хрестоматийными – Елена Соловей, Лариса Шепитько, Элем Климов… Много лиц, много натюрмортов, много всего…
ПРО САШУ ШЕКО
Бородатый, с приглаженными волосами, с мягким взглядом, Александр Шеко удивил меня в первую же нашу встречу. Он достал рисунки, и я обомлел, потому что таких рисунков не бывает. Казалось на бумагу упала тень каких-то далёких озёр и холмов, тень изогнувшейся сосновой ветви, тень православного храма, тень Валаама.
Где с ним познакомилась моя тёща, понятия не имею. Так или иначе, но это она привела его в дом, расхваливая без устали. Слова оказались бесполезны, чтобы передать суть того, что делал Шеко. Он делал чудо.
Мы быстро подружились. Для меня и моей жены он стал просто Саша. Разница в возрасте не мешала нашему общению, хотя Саша Шеко стоял для меня на недосягаемой высоте. Всё, что он рассказывал, было важно и плотно укладывалось кирпичиками в фундамент моего ещё не сложившегося мировоззрения.
В то время ещё продолжал функционировать Горком графиков, располагавшийся на Малой Грузинской улице рядом с заколоченным протестантским храмом, обнесённым грязным забором. Ещё тот дом был известен тем, что там жил Владимир Высоцкий. Там, в Горкоме, проходили самые интересные художественные выставки. Только там можно было увидеть картины знаменитой Двадцатки. Ни я, ни моя Ю не знали ничего о Горкоме и скандальной Двадцатке. Но к нам пришёл Саша Шеко и в прямом смысле слова принёс нам свет из мира художников.
Однажды он повёл нас знакомиться с Любой Урицкой, его бывшей женой. Он сказал, что мы должны обязательно увидеть её фотографии. Неподалёку от Сухаревской (в то время Колхозной) площади мы свернули в крохотный переулок, затем нырнули во дворик и прошли в подъезд старого кирпичного дома. В квартире нас встретила Люба Урицкая, бывшая жена Саши. Тёмный коридор вёл в белую комнату: стены её были оклеены белой бумагой и потому служили замечательным фоном для экспозиции. Там была настоящая выставка. На стене справа от двери висели огромные чёрно-белые фотографии Любы Урицкой, а не противоположной располагались картины Саши Шеко (насколько помню, все из так называемого синего цикла).
– Это космический цикл, – объяснил Саша. – Теперь уж я не работаю в этой технике. Вы видели, какие тонкие вещи я сейчас рисую, почти прозрачные.
К моменту знакомства с нами Саша успел сменить несколько стилей. Ломаные авангардные формы остались позади, и ничего общего уже не было между художником, с которым мы познакомились, и тем Шеко, которым он был в молодости. Много позже он показал мне по секрету коробку с рисунками, спрятанную подальше от посторонних глаз. Тонкая жёсткая графика изображала обнажённые человеческие тела. Это был неизвестный широкой публике Шеко, который мне очень понравился. В то время я тяготел к чётко прорисованным линиям. Саша подарил мне один из тех рисунков, он хранится у меня и сейчас.
На стене перед нами висели полотна, которые мы не могли сравнить ни с чем, виденным ранее. Мощные, светившиеся белыми лучами и поглощавшие густой синевой, они казались бесконечными, хотя самая большая из них («Звезда») не превышала метра в длину и ширину, а самая маленькая («Пирамида») едва ли была более двадцати сантиметров. Эти картины втягивали в себя, каким-то непостижимым образом расслаивая пространство и поглощая зрителя в свои недра.
– Когда мы поселились здесь, – рассказывал Саша, – и я каждый день видел в окне перед собой кирпичную стену, меня потянуло вверх, в космос. Посмотрите в окно! Ну как тут жить с таким видом!
Стена дома, стоявшего в двух метрах напротив окна, отгораживала весь мир. От земли до неба – кирпич. Для человека, обожавшего просторы, такой вид из окна был равносилен крышке гроба.
– Здесь колодец, теснота! – говорил Шеко. – Меня просто швырнуло вверх, в космос.
Он всегда начинал говорить очень тихо, почти неуверенно, но понемногу раззадоривался, входил во вкус, раскрывался, и речь его делалась бурной. Он рассказывал о своих переживаниях с азартом, с упоением, даже с восторгом, и это очаровывало, потому что он никогда не говорил о хлебе, о квартплате, о политике, а говорил только о рождении искусства. Он был носителем искусства, служил ему, воспевая божественность мира, поэтому его слова несли огромный творческий заряд. Пропущенные сквозь художника, эти слова превращались в творческую энергию, захлёстывавшую слушателей.
– Так вот и появились эти синие картины. Но сейчас я уже не пишу так.
Он рисовал в основном карандашом, но иногда брался за масло, работая им, правда, в совершенно чуждой для масляной краски манере – он создавал почти акварельные рисунки. Невозможно было поверить, что он наносил на холст краску, предназначенную для сочных мазков. Его кисть превращала эту краску в почти прозрачную воду, даже не скрывавшую грубую фактуру холста. Главная тема того периода – Валаам, его водные просторы, его взгорбленные острова, его причудливо скривившиеся сосны. В Сашином исполнении всё это превращалось в синеватые тени, походившие то на корону, то на сгорбленные монашеские фигуры…
– Ты уже познакомил ребят с Аликом? – спросила Люба.
– Нет, – потупился Саша.
– Чего ты прячешь его? – засмеялась она. – Для себя бережёшь?
Саша ответил что-то невнятное. Мы с Ю не понимали, о ком шёл разговор. Но минуло какое-то время, и Саша представил нам Алика – таинственного Александра Фёдорова, о котором надо рассказывать отдельно и долго…
Несколько раз Шеко водил нас в гости к чудесному художнику по фамилии Козьмин, жившему совсем близко от нас. Потом он, к сожалению, погиб. Чем-то его картины перекликались с работами Шеко, но чем – не смогу сказать. На самом деле в них не найти ничего общего, но умение воплотить свой замысел в геометрических формах, обобщив контуры привычного мира до предела, роднило Шеко и Козьмина.
Сашины карандашные рисунки требовали повышенного внимания, в них надо было вглядываться. Обычно он ставил их в крышку от картонной коробки, чтобы создать ровный фон и отгородить рисунок от влияния посторонних форм. Это было целое действо, оно завораживало, требовало тишины. Затем Саша доставал маленькую флейту и начинал что-то наигрывать. Это было уже похоже на медитацию в каком-то восточном храме.
Чуть позже Шеко познакомил нас с Евгением Ванаевым, замечательным поэтом и фантастически талантливым композитором. К постоянно возникающей теме тесного мира, в котором мы все знаем друг друга, скажу, что племянник Жени Ванаева (Сергей Ванаев) учился в МАХУ, где я работал фотографом (правда, я не застал Сергея в училище, он уже выпустился к тому времени), а сам Женя дружил с семьёй Расторгуевых (это выяснилось на моём дне рождения, когда я пригласил Таню Расторгуеву, ещё учившуюся в МАХУ, и она сидела рядом с Ванаевым). Размышляя о таких вещах, мне хочется расспросить всех моих знакомых об их друзьях и знакомых, потому что обязательно отыщется ещё десяток-другой связующих звеньев, которые соединяют нас друг с другом.
Сложившаяся компания Саша-Женя-Алик периодически устраивала у нас дома маленькие концерты – флейта, гитара, клавишные. Ванаев дал Саше ласковое прозвище Шекончик, а его флейту называл сопелкой («Доставай свою сопелку, играть будем»). То было время непрерывного творчества. Каждый из них открывал шлюзы своих замыслов, и мы буквально утопали в множестве впечатлений.

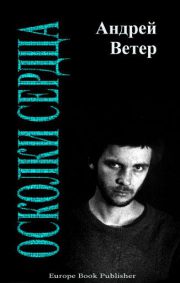
"Осколки сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осколки сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осколки сердца" друзьям в соцсетях.