Потом было моё первое Пау. Мне дали командировку, но не дали камеру – смешно. Пришлось купить бытовую, и этот «Panasonic» прослужил мне верой и правдой почти пять лет. Кевин Локк, выступавший на выставке «Четыре ветра», заснят на эту камеру. И выступление ребят в Лужниках перед огромной толпой зрителей, где Танцующий Лис увлёк зрителей в индейскую пляску, – тоже мой верный «Panasonic».
Однажды мне удалось вытащить группу ребят в Москву специально на съёмку в Кратово, где находилась конюшня Саши Тереника. Там было снято несколько сюжетов, в том числе и творческий портрет Маши Большаковой. Эта конюшня превратилась в волшебные врата, которые вели в индейский мир. Вспоминается, как Лис давал мне интервью, держа на поводу красивую белую лошадь. К несчастью плёнка оказалась с браком, и пришлось вирировать ту картинку в синий цвет, пряча технические помарки. Всё очарование, весь гипнотизм изображения исчезли, но остались слова Лиса. В тот вечер многие остались отдыхать в конюшне, поставив столы под открытым небом, и лишь несколько человек (в том числе Лис и Юра Котенко), поехали в Москву. По дороге Лис сказал: «Я хочу выкурить трубку».
Когда он говорил о трубке, это всегда звучало как-то особенно, хотя он никогда не произносил слово «трубка» с каким-то нажимом, не педалировал её важность. Мы приехали к нам домой, устроились в большой комнате на полу и Лис принялся готовить табак, неторопливо скатывая его в шарики и набивая ими трубку. Он поднимал каждую щепотку табака вверх и спокойно, будто беседовал с близкими друзьями, обращался к четырём сторонам света, к небу, к земле, говоря, что в его трубке есть табак и для них. С нами, мужчинами, сидели тогда моя жена и Лена Белостоцкая. Они тоже курили. И это было серьёзно, хотя выглядело незамысловато, спокойно, без напускной серьёзности.
Мне выпала честь курить с ним трубку несколько раз – никогда на Пау, всегда это происходило в городе. Помню Мато Нажина, помню Койота, когда мы курили дома у Лиса. Опять всё выглядело просто, буднично, но вместе с дымом воздух наполнялся нашими непроизнесёнными молитвами, потому что молитвы звучали во всём, что делал Танцующий Лис.
Когда тяжело заболела моя жена, я позвонил в Питер. Вернувшись из больницу, я не знал, с кем поговорить, с кем посоветоваться, потому что никто не мог дать совета. И рука сама набрала номер Танцующего Лиса. Он понял меня с первых слов. «Молись, – сказал без тени назидания. – Не выпрашивай ничего, а молись, разговаривая. Если не знаешь, как это делать, то возьми тексты и читай их для себя. Пусть душа придёт в равновесие». И во мне открылось что-то новое, потому что с того момента я почувствовал непосредственную связь с Богом. Лис позволил мне нащупать какую-то нить…
Трудно о нём рассказывать, потому что нелегко ухватить его образ. Танцующего Лиса было много. Его энергия казалась мне всеобъемлющей. Он проникал всюду. Индейцы были, конечно, одной из главных его составляющих, они служили ему опорой. В одном из интервью он сказал, что мир делится на белых людей и на индейцев, что среди индейцев есть люди с душой белого человека и среди белых людей есть люди с душой индейцев. Это очень важные слова, они определяли его жизненную позицию. За свою любовь к индейцам – это невинное, казалось бы, увлечение – он был отправлен в психушку (то ли пытались, то ли упекли туда ненадолго), деталей не помню. Россия почему-то боится индейцев. Наверное, своим свободолюбием и независимостью они пугают наших правителей больше, чем идея социальной революции, потому что все правители имеют душу белых людей, душу поработителей, душу насильников.
Он был первым, кто принёс на Пау индейские танцы, отыскав, наверное, где-то рисунки индейского степа. Вероятно, поначалу это выглядело жалко, но важно движение: он начал, он продолжил, и в конце концов сделал пляску важнейшей составляющей Пау, а то и главным достоинством. Без танцев невозможно представить Пау. «Через танцы мы выражаем своё уважение Великому Духу», – говорил Лис.
Он мечтал снять фильм. Первая попытка вылилась в «Дезертир». Если разбирать его с точки зрения искусства, то это слабенькая работа, в которой нет ничего ценного, кроме выражения любви к вестерну и любви к индейцам. Но с точки зрения кинопроизводства – это шедевр, ибо сделано всё на пустом месте, почти из ничего, сделано со вкусом, сделано с максимальной тщательностью. Он гордился этим фильмом, хотя «Дезертир» был далёк от совершенства. Я позволяю себе такую критику, потому что сам начинал с любительского кино и теперь, оглядываясь на сделанное, вижу все слабые стороны в профессиональном смысле. Когда я пытался объяснить Лису, что требует исправления, он не слушал, сводил всё к шутке. Так, Дима Кроу неоднократно пытался заставить Лиса доработать музыку, но Лис не хотел. А если и хотел, то он просто отнекивался из какого-то упрямства, потому что не любил, когда ему указывают. Обладая гигантским потенциалом и необъятными талантами, он не старался сделать себя профессионалом в кино, не хотел шлифоваться. Он очень спешил и брал количеством, а не качеством. И при этом был довольно резок в суждениях.
Помню, как увидев на экране Питамакана (Игоря Сурова), разнёс в пух и прах его одежду (на мой взгляд, незаслуженно), обвинял Пита в дилетантизме (а уж в этом Игоря никак нельзя обвинять). Когда Танцующи Лис и несколько питерских ребят заночевали у нас дома, Лис с презрением спросил: «Что за пижонская квартира у тебя?» Его высокомерие неприятно задело меня, но я смолчал. Видно, Лис считал в то время, что стены непременно нужно разрисовывать собственной рукой, а не оклеивать хорошими обоями, и что обшарпанный паркет лучше, чем красивый ковёр, и что облупившиеся кособокие шкафы больше соответствуют свободолюбивому художнику, чем построенная на заказ полированная «стенка». Я не мог похвастать хорошим воспитанием, но с детства соприкасался с элегантными вещами, изящной обстановкой в домах богатых фабрикантов и ухоженная квартира была для меня нормой. Лис же вырос в советской серости и нападал на всё, что выходило за рамки этой серости, путая понятия и ориентиры. Он позволял себе язвить, не задумываясь над тем, как чувствует себя при этом объект его насмешек. Мы с женой как-то квартировали у него недельку, за день до отъезда купили собрание сочинений Стендаля. Лис посмотрел на гигантскую пачку книг и с откровенным непониманием спросил: «Зачем это вам?», и я не нашёлся, что ответить ему. Он жил в своём мире и, как всякий очень себялюбивый творческий человек, прятал свои комплексы за насмешками над тем, кто мог нарушить его систему ценностей.
А ценностей у него насчитывалось много: великолепный музыкант, замечательный художник, кинематографист, этнограф и прирождённый организатор. Его организаторские таланты невозможно объяснить. Ему удавалось всё. Он мог вытянуть из чиновников любые обещания, получить какие угодно разрешения. Мне трудно представить, чтобы кто-то ещё смог договориться о бесплатной съёмке бала в одном из дворцов Питера, пригнать туда карету, собрать народ в соответствующих костюмах, музыкантов. И всё на энтузиазме! Когда он рассказывал об этом, я не верил своим ушам. А потом увидел эту сцену. Всё оказалось правдой. Только снято было неинтересно – как сейчас свадьбы снимают или раньше средненькие советские фильмы делали. Размах, мощь, энергия, возможности – и всё словно в песок. Ему некогда было выстраивать кадр, поэтому он работал только с широким объективом – так проще. Ему некогда было сочинять точные тексты – импровизировали на месте. Ему некогда было думать над мизансценами – будет как будет. К сожалению, он сделал гораздо меньше, чем мог бы. Всё сделанное им можно считать только черновиком.
Он не мог иначе, потому что его поджимала судьба. Он торопился сказать хотя бы как-то, и не до изящности слога ему было, потому что изящность требует времени. А времени-то ему не хватало. Он не умел передвигаться шагом, он мчался галопом. И мчался только для себя. К сожалению, другие мало интересовали его. Когда мы приехали в Каннельярве, я хотел снять для фильма «Юхаха» крохотную сцену в стойбище. С Танцующим Лисом мы обговорили всё заранее: костёр на открытом пространстве, пляска мужчин в одних набедренниках, без пан-индеанистской мишуры. Он загорелся, согласился, однако уже там, на месте, Лис даже не шевельнулся, когда я напомнил ему о съёмке. «Потом как-нибудь», – отмахнулся он. Чужие замыслы не волновали его. Даже съёмки на конюшне в Кратове шли так, словно ребята приехали поплясать в своё удовольствие, а не для моей телепередачи, хотя я из собственного кармана оплатил всем билеты. Мои никудышные организаторские способности заставляют меня завидовать неподражаемым организаторским способностям Танцующего Лиса.
В самом начале я сказал, что вся его жизнь была похожа на танец. Он всё делал легко, как бы танцуя, – кино, картины, песни. Помню, как удивился я, увидев скрипку и виолончель в его квартире, и спросил, умеет ли он играть на скрипке, Лис ответил, что немного умеет. Взял скрипку, приложил к плечу и запрыгал смычком по струнам. Чёрт возьми! В доли секунды я провалился в атмосферу задымлённого салуна – так ловко и пьяно он играл. А на лице – почти невозмутимость, словно он не исполнял музыку, а слушал её. Его пальцы скользили по струнам без напряжения, и смычок он держал как бы нехотя, с ленцой, будто не затрачивая никаких сил.
И семьи он создавал и разрушал легко, будто в этом не было ничего серьёзного. Одна женщина, другая, третья – просто и быстро. И безжалостно. Никогда я не задавал ему вопросов о его женщинах, потому что это неправильно – расспрашивать человека о его личной жизни, если он человек молчит о ней. Каждый сам выбирает, что открыть и что спрятать. Личная жизнь Танцующего Лиса осталась для меня загадкой. Любил ли он кого-нибудь? Он уходил от своих жён, но в конце концов вернулся к Лене, с которой создал свою первую семью. Лена запомнилась очень милой, молчаливой, усталой.
Лис танцевал по жизни до последних своих дней. Опухоль головного мозга – штука страшная. О его болезни я узнал, возможно, позже всех. Ему уже сделали первую операцию, когда кто-то сообщил мне об этом. В 2007 мы встретились на Пау, разговаривали в последний раз. Он до глубокой ночи сидел у костра в нашем типи и с удовольствием рассказывал о своих гастрольных поездках, о ярких впечатлениях от Европы. Говорил безостановочно, словно до того момента ему запрещалось открывать рот. На голове – синий платок, закрывавший шрам от трепанации. Лис впервые жил не в типи, а в крохотной туристической палатке. На открытии Пау он танцевал условно, лишь намечая движения, но не танцевать не мог. Сетовал на то, что врачи запрещают ему работать за компьютером, однако без работы он уставал больше, чем от работы, поэтому после Пау сел монтировать что-то потихоньку.
Осенью 2007 под Москвой проходил большой этнографический праздник Типи-Фест, участвовать в котором пригласили также индеанистов. На огромном пространстве стояли юрты, в них можно было укрыться от холодного ветра и дождя. Танцующий Лис выступал со своим ансамблем, играли кантри. А вскоре после этого он опять попал в больницу, где его стали готовить ко второй операции: опухоль разрасталась снова. Реальная жизнь смешалась в голове Лиса со снами. В разговоре с Мишей Бизоном он рассказал ему, что видел странный сон, где он спал в юрте – поездка на Типи-Фест казалась ему сном…
Танцуя, он медленно удалялся от реальности.
На операцию собирали, как говорится, всем миром. Наша семья тоже дала денег, хотя я считал, что операцию делать Диме нельзя. Мой отец прошёл через такую же болезнь, через такую же страшную опухоль, и я знал, что случается после второй операции – больной умирает. Человеку лучше уснуть, не попадая второй раз на операционный стол, ибо потом он уже не будет человеком…
В декабре сделали операцию, но Лис не вернулся к нормальному состоянию. Беспомощный, он жил, вслушиваясь в приближение смерти. Понимал ли он в те дни, что ему оставалось только ожидание?
24 февраля 2008 пришло по электронке письмо от Кроу: «Умер Лис».
В январе 2011 умер и Дима Кроу.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОРИДОРЫ
До недавнего времени я привык думать, что моя литературная жизнь началась на стыке XX и XXI веков. Началась, разумеется, не вдруг, в юности я уже упорно тюкал на пишущей машинке, творил что-то бесформенное без начала и конца, но не думал о себе как о писателе. Один из моих друзей сказал, увидев пачку моих сочинений: «Это не литература. Это из тебя интеллигентность прёт». Возможно, так и было. Я немного рисовал, немного фотографировал, немного снимал кино – всего набиралось понемногу, а работал в конторе министерства внешней торговли. Работа была скучной, бумажной, ненавистной. Чтобы не задохнуться от монотонности конторского быта, я и окунался в сочинительство, превратив его в волшебную дверь, через которую можно было убежать в другие пространства.

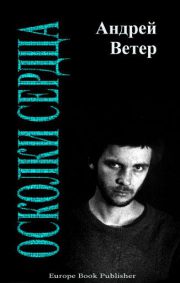
"Осколки сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Осколки сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Осколки сердца" друзьям в соцсетях.