На фасаде красовалась огромная рекламная растяжка: «Мир Казановы».
Величественное отреставрированное старое здание, видимо, дворец, но помещением галереи больше напоминающее современный склад — просторное, не загроможденное, искусно разделенное перегородками и ширмами, универсальное выставочное пространство двадцатого века.
Я купила билет и принялась осматривать экспозицию. Организаторы явно собрали всех мыслимых и немыслимых свидетелей эпохи, в которую жил главный герой выставки. Веера, игральные карты, гребни для волос, миниатюры с изображением Венеции того времени, одежда, которую герой мог бы носить, туфли, кружева, ванны, женские портреты, гондола, табакерки, акварели, запечатлевшие его тюремную камеру, карты с планом его побега, его автографы, ранние издания, письма с упоминанием его имени и, разумеется, все известные его портреты — совершенно не похожие один на другой и не сказать чтобы неотразимые. План побега впечатлял. Абсолютно на первый взгляд невероятное предприятие.
Я прониклась беспрецедентным интересом к жизни Казановы и внимательно все-все-все осмотрела. На целый час я, забыв о своем, перенеслась в Венецию восемнадцатого века, мысленно примеряла платья, купалась в ваннах, знала лично и даже, кажется, любила — разумеется, безответно — Джакомо Казанову. Совершала побег из жуткой тюрьмы. Наконец экспозиция кончилась. Над выходом висела растяжка с цитатой из самого героя:
«Жизнь, будь она счастливая или несчастная, полная удач или неудач, все же единственная радость, которая есть у человека, и тот, кто не любит жизнь, не достоин ее».
В одном из предыдущих залов этот великий обманщик также советовал всем не обманываться.
На неизменном сувенирном прилавке я отыскала небольшую, изящно изданную книжку в простом синем переплете — «Казанова» Стефана Цвейга. Будет что почитать у себя в келье. Шел седьмой час, дело близилось к закрытию, и я, прихватив сверток, шагнула на кампо, под сухое желтовато-розовое небо, гадая, как вернуться в гостиницу. Попытка вспомнить проулок, по которому я сюда вышла, ни к чему не привела — от площади через равные промежутки расходилось несколько одинаковых на вид улочек. Оставалось только выбрать наугад.
Никаких знакомых ориентиров вокруг — но тут их нигде нет. Я шла и шла. Кампо почти не попадалось, мостов тоже. Я надеялась, что если буду все время поворачивать только направо, то, в конце концов, вернусь на прежний маршрут. Как бы не так. Я кружила по лабиринту. Повороты, тупики, повороты, никакого выхода. Свет начал меркнуть, до паники еще не дошло, но тревога уже подбиралась.
И тут в каком-то проулке я увидела собравшихся в кружок мальчишек, школьников, что-то выкрикивающих и приплясывающих. Их возбуждение меня отчего-то насторожило, шестое чувство подсказывало, что это не просто мальчишеские забавы. Кто там, в центре этого жестокого хоровода? Я все равно заблудилась и, повинуясь порыву, кинулась их останавливать. Прекратить это издевательство, или травлю, или что там у них — по поведению ясно было, что в центре приплясывающего кольца несчастная жертва. Я свернула в проулок.
Приблизившись, я разглядела, что под ногами у беснующихся мальчишек действительно мечется какое-то крохотное существо. Оно описывало лихорадочные круги, а парни притопывали и хлопали в ладоши, не давая сбежать. Кто же у них там? Крыса? Сделав еще шаг, я присмотрелась повнимательнее. Коричневый зверек размером чуть крупнее крысы, повизгивая, затравленно кидался на мальчишек, пытаясь выскочить, но топот и хлопки не давали вырваться из пыточного кольца.
— Прекратите! — крикнула я. Подействовало. Мальчишки, их оказалось человек пять, прервали пляску и обернулись. Зверек, тяжело дыша, рухнул на землю. Это оказалась карманная собачка.
— Что вы делаете? — воскликнула я, кидаясь к ним.
Они переглянулись, и по кругу пополз досадливый презрительный смех. Мальчишки хорохорились друг перед другом. Но и я осмелела от злости. Ворвавшись в круг, я подхватила собачку на руки.
— Как вы смеете мучить несчастное животное? — возмутилась я.
Они принялись огрызаться, но я не понимала ни слова.
Их оголтелость меня пугала. Восьмилетние пацаны, совсем не шпана, просто дворовые приятели, но они на взводе и толпой, а я одна, и больше на улице никого. Они обменялись понимающими улыбками — женщина, туристка, что она сможет? Собачка, тяжело пыхтя, прижалась к моей груди.
Я выхватила из кармана горсть сдачи, полученной с крупной купюры, которой заплатила за книгу. Бумажные и монеты. Сколько там, я не знала.
— Берите и отстаньте!
Я швырнула деньги на землю.
Тут же началась потасовка, похоже, сумма оказалась приличной. Я опрометью кинулась по проулку обратно, прижимая к себе собачку, Сначала петлять по переулкам наугад, лишь бы скрыться — из одной узкой улочки в другую, пока шум схватки за спиной не утих.
Наконец я выбралась на кампо. Из прилегающего переулка доносился Вивальди в исполнении высокого тенора. Благословен будь, Вивальди, ныне и присно. Да, да, это она, моя улица! Отсюда налево — и свобода. Укрыв полой куртки обессилевшую собачку, я поспешила туда.
Вот «Прада», вот наша прежняя гостиница, можно расслабиться. Я пробежала, не останавливаясь, мимо «Гритти». Можно расслабиться, но у меня за пазухой собака, и неизвестно, как к ней отнесется администрация. Особенно к бездомной без ошейника, если она действительно бездомная. Поэтому вместо гостиницы я завернула обратно на площадь Сан-Марко.
На пьяцце сгущались сумерки, но толпа и не думала редеть. Во «Флориане» тоже не продохнуть, всего пара свободных столиков. Мне надо было собраться с мыслями. Забравшись в самый дальний угол, я уселась спиной к остальным болтающим и выпивающим посетителям. Возник официант — еще один красавчик, — я заказала кофе и белое вино, хотя так толком за день и не поела. Когда он отвернулся, я достала своего страдальца из-за пазухи и посадила на колени. Да, это оказался мальчик.
Он уже не задыхался, но вид у него был совершенно страдальческий. Такой же становилась Дора, когда заболевала. Знакомо. Песик был совсем крохотный, фунтов шести-семи весом. Коричневый с черными подпалинами на милой мордашке, чистопородный чихуа-хуа и просто красавец. Я накрыла его полой куртки и погладила по голове.
— Бедняжка, — пожалела я мученика. — Бедный мой малыш.
Свернувшись клубочком под курткой, он ткнулся мне в руку со слабым поцелуем. На шее виднелась полоска примятой шерсти — след от ошейника. Значит, мальчик не уличный, а домашний, обласканный. Я украдкой сунула под стол бокал с водой, который принес официант. Песик выхлебал все одним глотком, потом отполз поглубже и почти моментально уснул, поникнув головой. Досталось ему сегодня.
За кофе и вином я размышляла, как быть с гостиницей. И невольно улыбалась. Вот эта выходка точно взбесила бы Энтони — подобрать собаку на улице в чужом городе за границей. Но он далеко, поэтому возразить или помешать мне не сможет. От этой мысли повеяло свободой — и одновременно сжалось сердце. Я не говорила с Энтони уже больше суток. Это впервые.
Я вспомнила, как нашла Дору. Тоже коричневая, покрупнее этого песика, но ненамного, из тех мелких, которых в приютах называют «помесь с чихуахуа». Энтони звал ее крысомордиком и утверждал, что от породы в ней ничего не осталось. Со временем он к ней привязался, но когда я ее только заметила (у забегаловки, где она клянчила еду, без ошейника), чуть не лопнул от ярости. Ему пришлось ждать, пока я куплю ей бутерброд, а потом я, не слушая возражений, забрала ее с собой. Мы тогда всего-навсего остановились перекусить в прилизанном туристическом городке по пути на большую концертную площадку в Колорадо. До этого мы с Энтони несколько дней прохлаждались в спа, а теперь взяли напрокат машину, чтобы доехать до площадки и пересечься с остальной частью группы. Дора была еще совсем щенком, даже года не исполнилось. На улицу ее проситься точно не приучали.
Когда мы вновь уселись в машину, Энтони просто кипел от негодования. Во-первых, собака — это обуза. Мы не договаривались на собаку, а если бы договаривались, то он имел бы право участвовать в выборе породы. Ему нравятся большие собаки. Кто будет выводить ее по ночам? В гостиницу с ней не разрешат (на самом деле в гостиницах исполнялся любой его каприз); у него работа, и ему не до собак; если собака не даст ему спать, отправится туда, откуда взялась; собака наверняка больная. А я просто прижимала ее к себе, мою драгоценную Дору, весь первый день. Он бесился, потому что решение принимала я. Чудесно прокатились.
Потом, в номере, стало лучше и снова хуже. Энтони наконец разглядел, какая она очаровашка, а животных он на самом деле любил. Я сидела на кровати с Дорой на коленях, и он решил с ней поиграть. Навис над ней и зарычал. Дора, уверенная, что на коленях ей ничего не грозит, зарычала в ответ и оскалила идеально ровные белые зубы. Уроки улицы не прошли для нее даром. Она явно выбрала в хозяева меня, а Энтони с трудом выносил, когда предпочтение отдавали не ему. Дору мне послала сама судьба. Когда все и вся — Натали, Лидди, семейство Кассой, группа, менеджеры, агенты, фанаты — плясали исключительно вокруг Энтони, добиваясь его благосклонности, у меня вдруг появилась преданная подруга и соратница.
Подругой она была замечательной. У нее имелся собственный пропуск за кулисы с фотографией, цепляющийся на ошейник. Ею восторгались все, но она не терпела вольностей. И не стеснялась скалить, если что, свои белые зубки. Но все равно она была очаровательной и остроумной в своих реакциях и предпочтениях. Она питала страстную привязанность к частной собственности, ко мне лично и ко всему, что считала своим, включая Энтони, который постепенно привязался к ней и полюбил. Он шутил, что Дору мама наставляла так: «Деточка, твое здесь только то, что сможешь хапнуть и прожевать». Энтони иногда умеет рассмешить. Только интересно, откуда он выкопал эту присказку? Может, его самого так мама учила?
Когда мы с Дорой заселялись в какую-нибудь из бесконечно повторяющихся из тура в тур гостиниц, прибывая на встречу с Энтони, девушки-администраторы за стойкой, завидев нас, радостно кричали: «Ой, Дора приехала!» Под дверью номера скапливались подарки-лакомства. Однажды там обнаружился миниатюрный гамбургер на подносе с салфеткой, цветком розы и сопровождающей запиской: «Божественной Доре от тайного обожателя». Она была звездой сама по себе, без Энтони.
Умерла она от порока сердца около двух лет назад, совсем молодой. Но век выдающейся личности всегда короток, я поняла это после Нильса. «Светлый отрок ли в кудрях, трубочист ли — завтра прах»[7].
Они были так дороги мне оба, и оба меня оставили. Я почувствовала, как под сердцем кольнуло острой иглой. В глазах защипало. Я вскинула голову.
За окнами сгущалась темнота. Хочу я или нет, а в гостиницу идти придется. Заплатив по счету, я подхватила маленькое сонное тельце и осторожно опустила его в сумку — к Стефану Цвейгу и прочему хаосу.
Будь умницей. Сиди тихо-тихо. Ни звука. Постараешься? Si? А потом чем-нибудь поужинаем.
Он посмотрел на меня, моргая, а потом послушно улегся на груде барахла в сумке.
Напустив на себя самый беззаботный вид, мы вошли в вестибюль «Гритти». Там были люди, и я воодушевилась — проскочим. Ключ я получила беспрепятственно и уже подходила к лифту, когда мне вслед раздалось: «Синьорина! Синьорина!» У них что тут, собачьи детекторы? Я шла, не оглядываясь, но меня позвали еще раз, уже тише, не так настойчиво. Звал администратор из-за стойки.
— Да? Что такое? — откликнулась я.
— Простите за беспокойство, синьорина. Вам пришел факс.
Он с услужливой улыбкой протянул мне конверт.
— Спасибо большое.
«Только, пожалуйста, не шевелись и сиди тихо».
— Понравилась прогулка под дождем?
— Очень понравилась, спасибо. Венеция прекрасна.
«Куда я дела ombrello?..»
— Да-да, она невероятно красива.
Повисло неловкое молчание.
— Можно мне заказать что-нибудь поесть в номер?
— Да-да, конечно, разумеется. В любое время.
Приятная улыбка.
Что я говорила?
— Спасибо большое. Вы завтра здесь будете?
— Да-да, синьорина. К вашим услугам в любое время.
— Огромное спасибо, спокойной ночи.
Прибыл лифт, и я шагнула в кабину.
— Buona sera, синьорина!
Дверь закрылась.
Я нажала кнопку, и лифт поехал. Умница, хороший мальчик.
В номере зажжен ночник, шторы задернуты, постель расстелена, на подушке шоколадка. У нас получилось! Радужные переливы счастья и блаженство защищенности. Никаким уличным мальчишкам сюда не попасть.
Сняв куртку, я поставила сумку на кровать и открыла застежку. Там, среди жуткого беспорядка, восседал мой собственный уличный мальчишка. Огромные, слегка навыкате, чуткие глаза смотрели на меня так обалдело, что я немедленно подхватила его на руки и чмокнула в коричневый лоб.

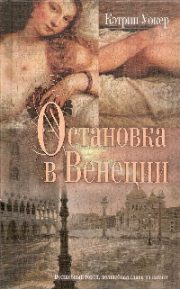
"Остановка в Венеции" отзывы
Отзывы читателей о книге "Остановка в Венеции". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Остановка в Венеции" друзьям в соцсетях.