Я поставила на кофейный столик бутылку коньяку и две рюмки, мы сели лицом друг к другу на софу. Он молча смотрел на меня.
– Ты за это время… ты сейчас… с кем-нибудь встречаешься? – наконец спросила я.
Он начал потирать указательным пальцем верхнюю губу.
– Я встречался с тремя или четырьмя женщинами. А ты?
– Нет.
Я налила коньяку, чтобы собраться с силами. Конечно, он встречается. Я ведь это знала.
Он взял свою рюмку, немного ее покачал и отпил.
– Когда я кого-нибудь обнимаю, я представляю себе, что это ты.
Мне пришлось справиться с рвавшимся у меня изнутри голосом, который говорил «конечно, конечно», и я несколько минут смотрела на огонь, допивая свой коньяк.
– Почему меня, Умберто? Что во мне такого, чего нет в других женщинах?
До нас донеслось звяканье ключей – это соседи возвращались домой – и Франк вдруг разразился лаем.
– Франк! Лежать! – скомандовал Умберто.
Я не верила своим глазам: Франк опустился на ковер и просто слегка поскуливал.
Умберто опять потер верхнюю губу и повернулся ко мне.
– Всю мою жизнь меня любили, как игрушку. Когда я был маленький, моя мать брала меня в церковь по воскресеньям, чтобы мной похвастаться. Потом это были женщины – даже женщины, которых я не знал, – они подходили ко мне на улице или в супермаркете. Они присылали мне милые открыточки или небольшие подарки, оставляли номера телефонов. Когда мой ресторан стал процветать, мною начали интересоваться из-за моих денег или известности, но я сам никого не интересовал, даже Марисомбру. Потом я встретил тебя, но еще слушая тебя по радио, я уже знал, что ты не такая. Ты действительно поняла меня. Ты серьезно отнеслась к моему увлечению птицами. Я решил, что ты по-настоящему меня любишь… вот почему мне потом было так трудно.
Он опустил голову.
– Я всегда был очень одинок, с самого раннего детства. Я слишком рано потерял бабушку, которую очень любил. Мне пришлось покинуть свою страну и жить как чужестранцу в новом месте. Я ждал, что меня откроют, но это произошло только, когда ты меня нашла.
Колени наши соприкасались, и я положила руку на его бедро. Он встал, притянул меня к себе и обнял.
– Как я мог потерять тебя? – произнес он.
И мне так долго не хватало его! Когда он разделся, я увидела, как ужасно он похудел. Шрам около лобка был все еще красного цвета и сильно выделялся. Когда мы легли, я осторожно до него дотронулась.
– Все еще болит?
– Просто иногда чешется.
У него несколько раз возникала и проходила эрекция, пока он гладил и целовал меня. Но я даже после длительной стимуляции не чувствовала достаточного возбуждения. Я не знала, сможем ли мы преодолеть расстояние и недоверие, которые разделяли нас в последний год.
Некоторое время мы лежали спокойно. Он расслабился. Потом он повернулся на бок ко мне лицом, приподнялся на локте и с тревогой посмотрел на меня.
– Я потерял тебя задолго до того, как мы перестали встречаться.
Я закрыла глаза и прижала его к себе. В какой-то момент мы свалились на ковер. Я смутно ощущала, что ковер колет мне ноги и копчик. Когда я наконец кончила, я судорожно закричала, и он успокаивал меня, повторяя:
– Крошка моя, крошка моя.
От ковра все еще пахло хлорной известью.
Умберто зашел в ванную и вернулся с полотенцем. Я вытерлась, приподнялась и неожиданно заметила что-то темное в полумраке. Потом я поняла, что это было: все время, пока мы находились в спальне, Франк лежал в углу, буквально сразив меня своей вежливостью.
Умберто помог мне встать, мы подошли к окну и посмотрели на небо. Молодая луна напоминала улыбку на небе, сквозь ветки платана я могла различить одну яркую планету.
Впервые за много месяцев внешний мир стал обретать для меня очертания.
ЭПИЛОГ
Опять ноябрь, прошел год с тех пор, как я в последний раз видела Ника, а несколько недель назад я получила от него открытку и фотографию. Написано было всего несколько строк:
– Все еще лечусь у психотерапевта. Часто о вас думаю. Всего хорошего, Ник.
Я долго рассматривала фотографию. Ник сидел у пианино с торжественным выражением лица, держа руки на клавиатуре. Я подумала, что фотографировала, наверное, его новая подружка или приятель. А может, он сам себя снял фотоаппаратом с автоспуском.
Он был загорелый. Может быть, он еще не нашел работы или просто живет около пляжа. На нем была гавайская желто-бирюзовая рубашка с эффектно разбросанными пальмами. На пианино стояла банка кока-колы, а рядом с ней – стакан с какой-то темной жидкостью.
Я рассматривала пальцы на клавиатуре. На правой руке что-то блестело, может быть, кольцо. Наверное, он купил его на память об отпуске, а может, ему кто-то его подарил.
Он смотрел на клавиши пианино, глаз его не было видно, но его подбородок обрел какую-то мягкость, даже некоторый намек на доброту. Я знала, что он стал счастливее, и мне показалось, что он наконец занимается тем, чем хочет. Мне хотелось так думать.
Когда-то рядом с нашим домом в Бендоне свил гнездо поползень. В начале апреля, когда он подыскал себе пару, он постоянно подлетал к нашей теплице. Мама очень беспокоилась, что он поранится, так настойчиво он бросался на собственное отражение. Он борется с соперником из-за своей самочки, сказала мама. Мы подумали, что, если завесить стекло полотенцем, он прекратит кидаться на него, но он просто переместился немного в сторону.
Глядя на фотографию, я вспомнила того поползня. Если бы я соорудила для него завесу, он бы тоже нашел другое место. Ему необходимо было разыграть весь сценарий, так сильны были движущие им силы, так же сильны, как инстинкт у птицы.
Теперь я работаю в клинике Кевина в Санта-Монике, но не более сорока часов в неделю. Из окон своего кабинета я вижу лужайку с травой, на краю ее растет глициния, там живет райская птица. Хотя я – главный врач клиники, я все еще один раз в неделю веду своих собственных пациентов частным порядком.
Я работала вторую неделю, когда ко мне пришла новая пациентка, это была женщина сорока пяти лет, находившаяся в состоянии депрессии и подверженная приступам паники. Во время первого сеанса я сказала ей:
– Наверное, бывают моменты, когда вы чувствуете себя такой испуганной, что боитесь дышать… Вы не знаете, проживете ли еще час.
Ее глаза наполнились слезами, и она сказала:
– Все именно так.
Потом она очень странно на меня посмотрела, склонив голову набок. Она сказала:
– У вас были… бывают приступы паники или депрессии?
Я решила, что она, наверное, единственный человек в Лос-Анджелесе, который не слышал о процессе. Не пытаясь скрывать, я сказала:
– Я перенесла муки ада и вернулась оттуда. Надеюсь, то, что я испытала, поможет вам.
– Мне так много надо вам рассказать, – сказала она, и мы начали деликатный процесс распутывания ее чувств.
Теперь три раза в неделю я лежу на диване Даниделлоу и рассказываю ей о своих переживаниях. Мне приятен запах табака, которым пропитан ее кабинет, ряды книг, приглушенный свет, мягкий тембр ее голоса.
Я наконец рассказала ей о чем-то большом и сером, что иногда неясно вырисовывается передо мной, когда я засыпаю.
– Как вы реагируете на это? – спросила она.
– Иногда я дергаюсь и просыпаюсь. Иногда это меня влечет, иногда я не открываю глаз, и это меня поглощает.
– То, что вы описываете, называется феноменом Исаковера. Считается, что эта огромная масса – примитивная память о груди, о том, как она неясно появлялась перед лицом, это – память о кормлении грудью.
– Я раньше никогда об этом не слышала.
– Считается, что это новое кратковременное психологическое единение с матерью, иногда желанное, иногда сопровождаемое страхом полного уничтожения.
– Так это – самая ранняя форма амбивалентности?[1]
– Так утверждает теория.
– У меня была еще масса случаев подобной двойственности.
– Да. – Она поставила ноги на подставку позади меня. – В тот вечер накануне Дня Всех Святых, когда пала твоя мать, ты ясно увидела, что у нее есть свои недостатки. И хотя вы уже прошли долгий путь, вам еще предстоит полностью принять ее со всеми ее свойствами.
– Мне легче, когда я не с ней рядом.
– Может, всегда так и будет. Но мы вместе поработаем над этим.
– Вы говорите об ощущении себя самого как индивидуальности. Без этого вы не ощущаете, что живете полной жизнью, не так ли?
– Так.
– Захария часто говорил, что я нужна была Нику, чтобы он мог как бы прочувствовать свои чувства, чтобы он мог ожить. Думаю, что хотя и в меньшей степени, но это относится ко всем нам.
– А, да, – мягко сказала я. – В отраженном свете любимого лица, которое вас видит, вас знает и любит такой, какая вы есть, вы поистине и рождаетесь.
В августе я была подружкой невесты на свадьбе Вэл и Гордона. Мои родители приехали на выходные и жили с нами в доме Умберто. Моя мама выглядела красивее, чем когда-либо в последние годы. Она сильно похудела. Я знала: то, что переменило меня, переменило и ее.
Празднество проходило в отеле «Бель-Эр». Валери восхитительно выглядела в платье, отделанном кружевами, на которое моя мама вручную нашила кусочки горного хрусталя и жемчужинки. Я шла по проходу под руку с Умберто, когда заметила слезы в глазах матери, но это меня не рассердило.
После обеда мы с Умберто танцевали. В зале было жарко, громко играл оркестр, Умберто кружил меня, и мне казалось, что это один из тех летних вечеров до отъезда дядюшки Силки, когда я со всех ног бежала, чтобы встретить возвращавшегося домой отца, а он хватал меня, подбрасывал в воздух, и кружил до тех пор, пока у меня не начинала кружиться голова.
Я танцевала с Умберто, мои родители смотрели на меня из-за соседнего столика, и в памяти моей надолго запечатлелись эти образы: смеющийся Умберто с капельками пота на лбу, он изо всех сил старается преодолеть возникшую между нами пропасть; я, затянутая в атласное платье, ноги мои болят от высоких каблуков, я пытаюсь преодолеть страх и обнять его; моя мать, она смотрит на меня затуманенными от слез глазами, а мой отец в своем первом взятом напрокат смокинге, рука его покоится на спинке маминого стула.
И еще один образ – когда уже закончилась музыка: склонившийся над моей матерью отец, он нежно стирает с ее щеки маленькую крошечку глазури.
Когда оркестр опять заиграл вальс, я пригласила отца потанцевать.

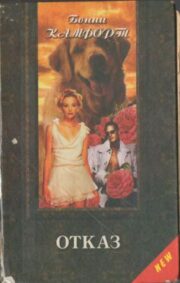
"Отказ" отзывы
Отзывы читателей о книге "Отказ". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Отказ" друзьям в соцсетях.