— Не густовато, — согласилась Нонна, немного поразмыслив. — Но ведь себе дороже бегать по присутствиям, копейки отсуживать. — Нонна совсем успокоилась. Единственное событие в ее жизни осталось на данный момент незавершенным — рождение ребенка. До остальных же ей нет дела. — Налить кофе? — спросила она и приготовила турку.
— Налей, — согласился Витька. — А покрепче?
— Ты пьешь? — она мельком бросила на него осторожный взгляд.
— Вообще-то нет, но сейчас бы не отказался.
— А чего тебе хочется?
— Не знаю. — Витька сел к столику. Он перестал ждать от Нонны подвоха. А то действительно, увидел живот и испугался. Чего, спрашивается, испугался? Не его ребенок. Конечно же, не его. И не может быть его. Когда он уезжал, Нонна обязательно сказала бы ему об этом.
— Послушай, а когда тебе рожать? — он все же попытался вычислить время зачатия.
— Да неважно, — отмахнулась Нонна, но взгляд ее задержался на Витьке дольше обычного. Сказать? Нет? Витька облегченно вздохнул. Ну, раз неважно, значит, не он отец. И слава Богу! А то ведь хлопот не оберешься.
«Нет, не сказать». — Нонна опустила глаза на кофеварку. Кофе тихонечко шевелился, как круглый черный живой глазок неведомого организма. Глазок разволновался, зашипел, потом вдруг неожиданно психанул и гневно вспенился. Пена побежала к краям турки, Нонна моментально сняла посуду с огня и вылила кофе в чашечку. Из этой чашечки Нонна поила Витьку в последний раз. Именно из этой. Она часто смотрела на едва заметную щербинку слева от ручки и вспоминала последний разговор. Она хранила эту чашечку, как драгоценную реликвию. Даже когда чашек не хватало, она все равно не доставала для стороннего посетителя Витькину. Только сама из нее пила. А один раз, во время нахлынувшей волны токсикоза, чуть не уронила ее на пол. И, словно жонглер, позабыв и об одежде, залитой кофе, и о руках, ошпаренных кипятком, она все же поймала ее, летящую, у самого пола, и потом долго вовсе к ней не прикасалась, опасаясь снова ее уронить. Токсикоз прошел. Нонна опять пила из этой чашечки, смотрела на щербинку, похожую на поросячью мордочку без одного глазика и с большим пятачком. Даже ноздри на пятачке были. А вот глаза не было. Нонна хотела проковырять глазик острием вилки, но подумала, что это уже будет не то. Подделка. Подделка дешево ценится, зачем обесценивать то, что ей так дорого?
— Не скоро рожать… — Нонна вздохнула и поставила чашку на блюдце. — Ну что, налить?
— Налей, — согласился Витька. — Чуть-чуть.
— Чуть-чуть наводит муть. Недопить — все равно что перепить. Ты знаешь об этом? — Глаза Нонны блестели, она снова вернулась в то прошлое, где Витька сидел здесь, пил кофе, ел плюшки. Он очень любил плюшки. Свежие, с творогом. Местный хлебный комбинат завозил по два лотка через день. Плюшки разлетались в момент. Но Витьке Нонна всегда оставляла парочку-другую. Сегодня плюшек не было. Были конфеты. Шоколадные с вишенкой внутри и ликером. Конфеты Витька не любил, но Нонна все равно налила стопку и открыла коробочку конфет. Коробка импортная, из Чехии, кажется. Маленькая такая, всего на восемь штучек. А им больше и не надо.
— А у меня закусить нечем. Все разобрали уже. К закрытию ведь… — Нонна виновато посмотрела в Витькины глаза. Их взгляды снова сплелись, и снова стало тепло в душе. Отсутствие кокетства как-то соединило их и понесло. Витька выпил, закусил шоколадной конфетой и липкими, сладкими губами приник к ее приоткрытому рту. Боже мой, как ей стало хорошо! Она взяла его руку. Рука почему-то оказалась холодной. Никогда она не знала у него холодных и влажных рук. Нонна посмотрела за окно и вспомнила: май… Май! Почти год прошел, а как и не было ничего. Словно вчера расстались. Только вот живот. Нонна подышала в своей горсти на его тонкие и сильные пальцы. Как на цыпленка, отбившегося от квочки и замерзающего в бурьяне. Рука не согревалась, она только ослабилась и сделалась какой-то безвольной.
— Хорошо как, — сказал Витька. — Славный ты человек. Зря я смотался отсюда. У тебя вон уже и ребенок будет… Чей-то… Чужой… А мог бы моим быть. — Витька лукавил. Не нужен ему ребенок. Не нужен. Другое томит и тревожит его душу. — Нонка, — он вдруг встрепенулся и посмотрел на нее изменившимся, опьяневшим, что ли, взглядом. — А как ты думаешь, могли бы мы вместе жить? В одной квартире, одним хозяйством… Вот только, если б это был мой… мальчик, или девочка?
Нонна едва сдерживала слезы. Она крепко сжала его руку и потянула к животу. Рука послушно плыла по воздуху. Медленно и неотвратимо к моменту узнавания. Осталось каких-нибудь пять сантиметров. Нонна сжалась, Витька, который в животе, тоже сжался. Они ведь были одним неразрывным целым. Они мыслили тождественно, чувствовали тождественно, понимали тождественно. Витька, который в животе, сжался, и плотный поток страха упруго хлынул от него к ее сердцу. Витька, который рядом, словно наткнулся на что-то. Он дернулся, вырвал свою руку из руки Нонны и, словно ребенок, спрятал ее за спину.
— Не надо, — умоляюще простонал он. — Прошу тебя… Я не могу. Это так… Так… Страшно, — он с силой поставил кофейную чашечку на блюдце. Чашечка всхлипнула и раскололась пополам. На блюдце остались две разомкнутые половинки в черной лужице гущи. — Ох ты, Господи! Я, кажется, пьян. Сколько я должен? — Витька засуетился, встал со стула и салфеткой принялся старательно стирать расползающиеся в разных местах столика мелкие причудливые лужицы.
— Ничего, — тихо сказала Нонна. Она взяла тряпку и привычным жестом протерла стол. — Ничего ты не должен. Ты никому ничего не должен! — неожиданно зло крикнула Нонна, шлепнула тряпкой по поверхности стола, повернулась к стойке бара и, уткнувшись горячими глазами в сдвинутые локти, заплакала.
— Не плачь, я не хотел.
— И я не хотела. Я не хотела… Но я жила. Я так и жила бы дальше. Зачем ты явился? Откуда тебя принесло? Ты ведь учишься. Сессия же!
— А я досрочно, понимаешь… Соревнования, вот я и досрочно… Первый курс… Первый — можно. Дальше будет сложнее. Не плачь, пожалуйста.
— Уйди, я прошу тебя. Я не плачу… Но мне надо выплакаться, я не могу это больше… в себе. Уйди?
Витька послушно кивнул и пошел прочь. Дверь за его спиной тихо и плавно прикрылась. За окном сгущались сумерки, день умирал, вырождаясь в ночь. Все мы так. Не просто умираем, мы во что-то перетекаем, в чем-то остаемся, с чем-то соединяемся. «Нет, весь я не умру», — вдруг вспомнила Нонна. Убрала на полку посуду, смела осколки чашки и смыла с блюдца черную кофейную гущу. Плакать уже не хотелось. О чем плакать? О чашке! Разбитой, сo щербинкой в виде поросячьей мордочки? Зачем ее хранить? Ворошить прошлое, смотреть на нее со жгучей тоскою и вспоминать Витьку. А то, что она разбилась, так это же неспроста. Давно было пора. Жизнь, та, в которой эта чашечка была необходимой, ушла. Осталась жизнь, в которой она оказалась лишней. Вот, помнится, была у Нонны подружка, Наташка, так она всегда всему объяснение находила. Во всем предзнаменование чувствовала. Судьбы указующий перст.
У Наташки свадьба готовилась. Пышная такая, богатая. Мать — завмаг в «Березке», отец — завгар, сестра — стюардесса. На международных рейсах. Где только не побывала, чего только не напривозила. И шмоток разнообразных, и посуды, и штучек-дрючек-закорючек. Со всего света для всякой надобности. Привезла сестра ее из дальнего забугорья и набор хрустальных фужеров. В канун свадьбы Наташкиной поставили фужеры на стол, блюда укропом и яйцами разукрасили, гостей собрали. Смотрины. Родители жениха к родителям невесты. Обычай такой: одна семья с другой знакомится. Хороший обычай, радостный. Правильный обычай. А как же иначе? Ведь потом семьям и жить вместе. Переплетаться ветвями родовых деревьев, срастаться. Тут на кон все поставлено: и дети, и внуки, и правнуки. Целые поколения будущих времен. Надо же знать, с кем породняешься, чтобы будущему подлянку не подстроить.
Наташа любила Митьку. Они долго гуляли, ходили за ручку, тискались в темных подъездах. Митька на заводе работал, в командировки мотался. А как приезжает, сразу к Наташке. Радости — через край. Наташка от счастья вся пылает: щеки — алые, губки — алые, даже волосы, которые обычно рыжие, когда Митя рядом, — алые. Того и гляди, вспыхнет, вот так огнем и сгорит. А тут как раз сестра накануне смотрин привезла эти фужеры, и Наташке: мол, живите долго и счастливо. А это вам на долгую память будет. В том, что они поженятся, никто и не сомневался. Семьи — и та, и другая — в городе известные, богатые, порядочные. Только вот пока еще так близко не пересекались. Ну что ж, всему свое время. Сидят за столом, чин чином. Разговаривают, виновницу торжества ждут. Наташка в спальне своей платье надевает. Как в сказке, счастью своему и поверить не может. Волосы по плечам рассыпала, от волос свет лучится, даже глазам больно. Митька в комнату зашел, Наташку в шею целует, запахом духов наслаждается, а потом так на руки подхватил и в комнату понес. Наташка смеется, звенит колокольчиком, сердечко пташечкой поет. И всем хорошо, всем радостно.
— Ну что ж, дорогие сватушки, — говорит Иван Иванович, — разольем винца и выпьем за наших молодят. За то, что они такие у нас хорошие да пригожие, за то, что не разочаровали нас и обрели друг друга…
Иван Иванович говорил что-то еще. Он работал завгаром в автокомбинате, а до этого работал там же водителем. Водители, как известно, народ разговорчивый, коммуникабельный. Любил Иван Иванович поговорить и приготовился произнести длинную и содержательную речь, прежде чем пригубить красного домашнего вина. Мама Наташки тем временем разливала вино по хрустальным фужерам. Мама вино разливает, папа говорит, Митька Наташку за ушком щекочет и смотрит на нее преданными большими собачьими глазами. Так и хочется Наташке дернуть его за ошейник и приказать: «К ноге!» Все остальные смотрят на стол и, совершенно не слушая Ивана Ивановича, выбирают себе блюда по вкусу.
— Так пусть им так живется, как нам с вами, дорогие сватушки, а может, еще лучше! — на возвышенной ноте закончил свою речь Иван Иванович. Все дружно поднялись со своих мест, согнулись над большим круглым столом и стали чокаться над центральной салатницей с высокими краями, выложенными зеленым бордюрчиком горошка. И вдруг наполненные бокалы стали рассыпаться прямо в руках. Стекло с тихим клацаньем посыпалось в салат, по рукам гостей потекла бордовая липкая влага, а в пальцах остались длинные ножки с большими овальными донышками. Раздался визг женщин, недовольное бормотание мужчин и горестное причитание Наташки. Наташка вскочила с места, с грохотом отодвинула стул, бросила в салат ножку бокала и выбежала из комнаты.
Потом Наташка долго и надрывно плакала в своей комнате. Она закалывала волосы в пучок и снимала прямо через голову платье, не удосужившись расстегнуть «молнию» в боковом шве и крючочки по горловине спинки. Платье трещало по швам, волосы выдирались с корнем, из ванны доносились голоса женщин, застирывающих свои платья, из гостиной — голоса мужчин, со смехом обсуждавших событие, а Митька скребся в запертую дверь, царапал ее и поскуливал в щелочку:
— Натуль, ну, Натуль. Кисонька моя, Наташечка. Ну подумаешь, стекло разлетелось. Разлетелось и разлетелось. Мы таких наборов знаешь сколько купим. Да я вот в Москву в командировку поеду, я тебе и не такой привезу… Натулечка!
Наташка резко подскочила к двери. Растрепанная, с черными длинными дорожками слез под глазами, с размазанными губами, как мымра болотная, она открыла дверь и оказалась прямо перед изумленным Митькой. Митька стал мямлить что-то нечленораздельное, открывать и закрывать рот, как рыба, выброшенная на берег. Наконец он замолчал и отвернулся от этого душераздирающего, невыносимого зрелища.
— Ну приведи себя в порядок, — попросил он. — На тебя же смотреть страшно.
— Страшно — не смотри, — ответила Наташка и снова захлопнула перед его носом дверь. Послышался звук защелки, и Митька повернулся к двери и хриплым от волнения голосом сказал:
— Натушка, нельзя же так. Это очень нехорошо… Нас гости ждут. Соберись, пожалуйста.
— А чего собираться? — Наташка сидела на кровати, вяло положив кисти рук на колени. Ей не хотелось приводить себя в порядок, ей не хотелось возвращаться к столу и лицемерно улыбаться. Все. Счастья не будет. Не будет им жизни вместе. Это не стекло разлетелось, это судьба их разлетелась. Любовь их. На мелкие осколочки рассыпалась — и в салат. В горошек, в морковку. Вся жизнь — в морковку. А сколько радости было, сколько надежд, сколько счастья в глазах! Фейерверк счастья и радости. И все рассыпалось. Нет, не будет им жизни вместе.
У двери уже стоял папа. Иван Иванович, по своему шоферскому обычаю, толкал длинную и связную речь. Он, как мог, убеждал дочку в том, что это все пустяки, что не стоит набор хрустальных стаканов того, чтобы о нем так горевать.

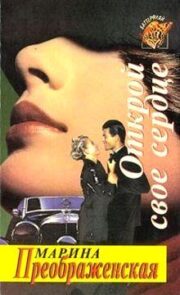
"Открой свое сердце" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открой свое сердце". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открой свое сердце" друзьям в соцсетях.