— Правда, — ответила Ирина и как-то сразу, без остановки спросила:
— А где ваша мама?
Алинка не успела сообразить, что этот вопрос по идее должен был бы причинить ей боль, и ответила как-то очень естественно и просто:
— Умерла. — Она посмотрела в глаза Ирине, как будто спрашивая: «Вы можете выслушать меня?», Ирина кивнула и не стала театрально прикрывать глазки, охая и ахая, извиняясь за неосторожный вопрос.
— Расскажи, — попросила она, словно чувствуя, что Алинке очень хочется выговорить свою глубинную и неисчерпаемую тоску.
— Я не могу больше играть на пианино, — зачем-то сказала Алинка. Для нее это было самым важным в сию минуту.
Она вдруг вспомнила, как попыталась сесть к своему старенькому инструменту и взять первые аккорды. Но пальцы будто бы налились свинцовой тяжестью. Они не хотели мягчеть и округляться. Суставы казались заржавленными шарнирами, неспособными сгибаться и разгибаться. Руки оцепенели до самых плеч. Алинка насильно стала набирать октаву. Октава не набиралась, и по сердцу когтями скребли жесткие и невозможно противные звуки.
В голове еще кружилась мелодия, но воспроизвести ее, выпустить на волю, как птицу из клетки, она не могла. Будто ключ потеряла, а отмычка не помогала. Бессилие терзало ее душу, выедало мозг, мелодия сбивалась, хрипела, загнанно металась, как заезженная пластинка, то и дело повторяясь в одной и той же фразе, пока Алинка со слезами на глазах не прекратила это самоистязание.
— Я не могу больше играть. Мне страшно, понимаете? Когда я начинаю играть, мне почему-то кажется, что вот именно сейчас мама умирает. — Алинка не плакала. Она говорила глубоким и спокойным голосом. Как о чем-то страшном, но уже свершившемся. Это было, но этого больше не будет. Потому что Алинка больше не допустит того, чтобы снова и снова из-под ее пальцев уносилась мамина душа.
— Понимаю, — очень тихо произнесла Ирина и молча протянула Алинке фотографию. — Смотри, — предложила она, и Алинка наткнулась взглядом на прелестное детское личико.
— Кто это?
— Мой сын.
— Сколько ему?
— Было бы пять, — Ирина сказала это недрогнувшим голосом, но по тому, как трепетали ее веки, как нервным тиком задергалась губа, Алинка поняла, как ей нелегко.
Алинка жадно впилась взглядом в лицо Ирины.
«Простите», — хотелось ей произнести, но вместо этого она вежливо и виновато попросила:
— Расскажи.
— Тут нечего рассказывать. Он просто катался на снежной горке и скатился под трамвай. Год назад… Ему было четыре, маленький еще, глупенький. И самое страшное, что во всем виновата я. Только я. Одна лишь я!
Алинке стало жутко, чувство сопереживания чужому горю затмило чувство переживания горя собственного. Она протянула дрожащей рукой фотографию ребенка Ирине, но та вдруг улыбнулась, смахнула случайную слезинку и подпрыгивающим на стыке голосом сказала:
— Я не могла писать. Я, понимаешь, журналистка. Но я не могла писать! Представляешь?! Я думала, это — все. Конец. Но время лечит, ага. Как бы это ни звучало банально, так и есть, поверь мне. А смерть, она хоть и разная, все равно в конечном итоге забирает людей в вечность. Единственное, чего я себе никогда не прощу, так это того, что доверила Лешеньку этому… Ублюдку, — вдруг зло выпалила она. А, — махнула она рукой, — долгий это разговор, да и нужен ли он? Все позади…
В купе вошел пышущий негодованием Вольдемар. Он нес в руках еще пару стаканов чая и бормотал:
— Стаканов нет, стаканов нет, а голова у него есть? Стаканы нашлись, сахара нет. Сахар нашелся, ложечек нет. Блин, ненавязчивый советский сервис. — Он поставил на стол стаканы и, подув на ошпаренный случайно выплеснувшимся кипятком палец, раздраженно продолжил: — В Москве заправку открыли, на западный манер. Вас там обслуживают двое рабочих. Даже выходить из машины не нужно. Сами и заправят, и денежку возьмут. Я подкатываю на своем тарантасе, а ехал по поручению начальства. По служебным, так сказать, делам. Мне шеф сказал, квитанцию выпишешь за бензин, через бухгалтерию оплатим расходы. — Он окинул присутствующих величественной холодностью. — Я подкатываю, как человек, они мне шланг в бачок вставляют, счетчик мотает, литры накручивает. Деньги берут, сдачу сдают. Смотрю, сами себе «на чай» отсобачили. Прошу квитанцию. А они, холуи совковые, пойди, говорят, в кассу, там тебе чек выпишут. «А вы на что? — спрашиваю». «А это, — отвечают, — в круг наших обязанностей не входит». Ну? — Он недоуменно покачал головой. — Ядрены пассатижи! А? Каково? Запад сраный. Все через то место, которым негры фекалии сбрасывают.
Алинка, сдерживая улыбку, старалась не поперхнуться горячим чаем, отхлебывая его мелкими глоточками и посматривая на бабаевскую «Белочку».
— Бери шоколад, он мне ужас как надоел, — Ирина придвинула развернутый пакет с конфетами поближе к Алинке и, не в состоянии совладать с собой, откровенно расхохоталась.
— Господи, да вас же, милый Вольдемар, за чаем послать невозможно. Вы так изнервничались, что смотреть жалко. Присаживайтесь, будем чаевничать.
— Спасибо, не откажусь, — ответил Вольдемар, несколько смутившись. Он сел рядом с Ириной и как бы невзначай прикоснулся к ее локтю рукой.
— Скажите, я вам нравлюсь? — вдруг прямо в лоб спросила Ирина, и Вольдемар закашлялся.
— Да как вам сказать?
— А вот так и скажите, — настаивала Ирина, — нравлюсь или нет?
Алинка смотрела на расползающиеся в разные стороны потеки дождя на вагонном окне. Поезд сделал большую дугу вокруг покрытого гусиными пупырышками пруда. И был виден голубой передний вагон. Как длинная членистая гусеница, поезд торопливо бежал по мутно блестящим рельсам.
«Интересно, что он ей ответит?» — подумала Алинка, но Вольдемар молчал, видимо, чувствуя какой-то подвох со стороны женщины.
— А вы и сказать честно не можете.
— Почему, могу. Я могу сказать честно, но здесь посторонние, к тому же дети. При посторонних нельзя, — почесав указательным пальцем коротко стриженный затылок, задумчиво ответил Вольдемар.
— Значит, по-вашему, получается, при детях говорить правду нельзя. Ну, не знаю, насколько правду. Во всяком случае, вам сейчас кажется, что — да. А вести себя подобным образом при детях можно, да? Так получается?
Вольдемар хотел было возразить, но Ирина не предоставила ему этой возможности.
— Вы лицемер. Вы подлый и грязный лицемер. — Алинка поняла, что этот упрек Ирина бросает в лицо Вольдемару, основываясь не только на случайном прикосновении к ее оголенному локтю и заигрывающих, откровенно зовущих взглядах. Видимо, еще до того, как они оказались в купе все вчетвером, между Вольдемаром и Ириной был разговор.
— А хотите, я расскажу вам о своей жизни? — ни с того ни с сего произнесла Ирина.
Алинка с готовностью оторвалась от заоконных пейзажей и приготовилась слушать.
— Я не буду начинать с самого детства. В детстве я была глупым и неинтересным ребенком. Я поздно научилась читать и вплоть до третьего класса не хотела писать.
По чистописанию и чтению у меня всегда стояли сплошные гусаки. То есть двойки, — ответила она на вопрошающий взгляд Алинки.
— Пары, — подсказала Алинка.
— Ну да, пары. Зато я сочиняла стихи. — Она испытующе взглянула на Вольдемара. — У вас есть возможность не подвергать себя мучениям и выйти. Сейчас я буду читать их, — сообщила она.
— Конечно-конечно, — согласился Вольдемар, взял со стола конфетку и стал, шелестя, ее разворачивать. Ирина переждала этот шумовой эффект и, сморщив лоб, стала припоминать хоть что-нибудь из своих детских опусов.
— Ага, вот… Та-та-та-та та-та-та-та, та-та-та… Мг, мг, сейчас… — Она поднесла палец к ямочке между верхней губой и носом и посмотрела в потолок. — Отчего-то все не то — суррогат. Влага бронзовых оград, рябь пруда. Мне б уйти куда-нибудь, наугад. Хоть куда-нибудь уйти. Хоть куда… Семенит лохматый псина за мной. В отдалении привычный скулеж… Та-та-та… Эх, черт. А! — Ох ты, Господи, наш шарик земной. Угораздило родиться — живешь.
Вольдемар перестал жевать конфету и прямо-таки прилип прожигающим взглядом к пламенеющей от волнения щеке Ирины. А та, помолчав еще немного, продолжила воссоздаваемые в памяти строки:
— Я-то знаю, все, что здесь — ерунда. Свет не свет, и боль не боль… Ждать невмочь. Мне б уйти куда-нибудь, хоть куда. Улететь бы хоть куда-нибудь прочь.
— Послушайте, — донесся до Алинки взволнованный голос Вольдемара. — А вы не отдавали своих стихов в журналы? Вас не печатали, случаем? У вас же потрясающие стихи.
— Да нет, — усмехнулась Ирина. — Стишки простенькие. И я знаю им цену, они ценны только как свидетельство того, что и в маленьких людях буйствуют большие чувства. Ведь знаете, сколько мне лет было, когда я придумала это стихотворение?
— Сколько? — начала Алинка, но тут же смущенно замолчала. Ее всегда учили, когда разговаривают взрослые, дети должны молча слушать. А Вольдемар и Ирина были для нее, конечно же, взрослыми. Несмотря на то, что Ирине вряд ли исполнилось двадцать восемь, а Вольдемару было что-то около тридцати.
— Мне тогда было девять лет. Я притащила домой очередной неуд по чистописанию и долго бродила кругами возле искусственного пруда. За мной бегала дрожащая ничейная собачка и смотрела на меня большими печальными глазами. Вот как у вас сейчас, — взглянула она на Вольдемара. — Такими же большими и такими же печальными. И мне было плохо-плохо. А когда мне плохо, в моей голове возникают стихи.
«Странно, — подумала Алинка. — В ее голове стихи, в моей — музыка. А в чьей-то еще — эскизы, таблицы, схемы. Почему, когда человеку хорошо, в его голове возникает пустота? Легкая, приятная звень, радостная бестолковость. А когда плохо — человек творит?»
— А потом я выросла и стала более серьезно относиться к учебе. Я росла в маленьком городке и всегда мечтала попасть в Москву. Маленькие города — для маленьких амбиций, большие — для больших. У меня были большие амбиции. Я хотела стать актрисой. Обязательно в столичном театре и обязательно всемирно известной. Я даже с первого захода поступила в театральное. Только вот проучилась я там недолго. Все мои амбиции разбились в пух и прах, как только я вышла замуж. Он был старше меня на пятнадцать лет. Классно рисовал. Нет, он не рисовал — писал картины. Он их так писал! Ах, как он их писал! Вроде бы смотришь на белый лист и думаешь, что он изображает пейзаж, который перед тобой, а ты будешь придирчиво всматриваться, искать непохожести, недостатки. Короче, заниматься ловлей блох. А он берет карандаш. Обычный «2М». Легонечко так берет, тремя пальчиками и делает штришок. Один, другой, третий. И вдруг перед твоими глазами вот этот пейзаж, который ты видишь, если отведешь взгляд от бумаги. Именно этот, и никакой другой, но как он раскрыт навстречу твоей душе! Как он великолепен! Как играют краски в черно-белом порхании грифеля!
Вольдемар зачарованно вздохнул и наконец-то громко проглотил сладкую шоколадную слюну. Алинка посмотрела на него негодующим взором. Как будто кто-то царапнул ее по открытой ранке.
— А комар пролетит, — продолжила Ирина, — так он и комара подцепит карандашиком. Раз — и ты видишь точечку над листком и слышишь комариный звон. Ну просто-таки слышишь, ей-Богу, до того это было потрясающе. А однажды летом я посмотрела на его зимний пейзаж, так, не поверите, мне аж зябко стало. Настолько все там чисто и прозрачно. Морозец похрустывает, снег искрится.
Я любовалась его пейзажами, натюрмортами, портретами и сладостно представляла себе, как он усадит в большое бархатное кресло меня, накинет какой-нибудь обрывок старой тюлевой занавески и напишет мой портрет.
— Это был бы гениальный портрет, — проворковал томным голосом Вольдемар, и все моментально порушилось.
Ирина заерзала на своем месте, смущенно оглядывая слушателей. Алинка тяжело вздохнула и посмотрела за окно. Прямо перед ее взором паслись мелкие цветастые коровки. Дождь уже перестал лить, и небо над горизонтом просветлело, стало зеленовато-прозрачным с чуть утяжеляющим низ чернильным оттенком.
— Собственно, я вышла замуж за него не совсем потому, что он был талантливым человеком. Хотя, почему бы и нет? — она как будто просила поддержки, и Алинка согласно кивнула. — На то у нас глаза, уши и другие органы чувств, чтобы выбирать. Животные ведь тоже зачастую долго и мучительно не могут сделать свой выбор. Хоть у них в этом плане все гораздо проще и объяснимее. Они ищут по совершенно определенным признакам, им нужны полноценные, здоровые особи для полноценного и здорового репродуктивного процесса. У человека в выборе участвуют тонкие материи, и не всегда мы способны отличить здорового человека, как физически, так и психически, от нездорового. К тому же часто именно нездоровье вызывает в нас наиболее активное стремление к соучастию.

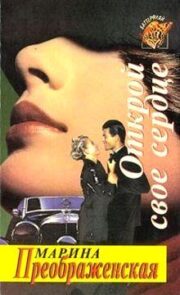
"Открой свое сердце" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открой свое сердце". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открой свое сердце" друзьям в соцсетях.