Вот и мой суженый был болезненно худ, вспыльчив, неуравновешен. Я списывала все это на талант. Мол, дал Бог одно, зато взял другое. И моя обязанность возместить избраннику то, чем Бог его обделил. Эка куда замахнулась, пигалица деревенская!
Я позволила ему забраться на мою шею, — Ирина горестно вздохнула. Моя-де вина, я ее и отпахала. Получила свое. — Поначалу я старалась, готовила ему кастрюлями, днями от плиты не отходила, стирала с утра до вечера. Он пачкать умудрялся так, как никакой самый неопрятный ребенок в осеннюю слякоть не испачкается. Но и это было бы не страшно, если бы он через некоторое время после того, как мы расписались, не стал попивать. Я боролась с этим изо всех сил. Наивная!
Сначала лаской и любовью. Безграничной лаской и беззаветной любовью, — Ирина многозначительно посмотрела на Вольдемара, видимо, припоминая его недавнее высказывание относительно любви. — Я действительно его любила. И чем больше я любила его, тем ожесточенней и циничней становился он. Он стал пропадать днями и ночами, стал пропивать свои гонорары и мою стипендию. Стал требовать деньги, которые мне приносили с оказией от мамы и пересылали по почте.
Потом он вдруг начал мелочно подсчитывать, сколько и на что я истратила, почему так много купила продуктов и кому я их скармливаю.
Отчего-то он утверждал, что, когда он пьян, ничего не ест, и недоумевал, куда подевались вчерашние котлеты. А однажды он избил меня.
— Избил? — Алинка ошарашенно смотрела на ее миловидное личико и никак не могла представить на нем следы побоев.
— За что? — поинтересовался Вольдемар, вложив в этот вопрос сомнение, а ведь наверняка было за что. Просто так не бьют.
— За что? — с трудом сдерживая себя, понизила голос Ирина. — Не знаю… Получилось как бы за то, что я ему не стала подогревать борщ, когда он в очередной раз закатился в комнату с осоловевшими и дикими глазами.
«Ага!» — мелькнуло во взгляде Вольдемара.
— У меня назавтра был очень важный зачет. Я сидела и штудировала историю театра. Не помню, что именно читала. До этого я не спала двое суток. Знаете, я раньше и не представляла, какой мучительной бывает бессонница. Мне как-то сказали, раз не спишь ночью, значит, не хочешь спать. Человек, если выматывается, сам засыпает, хочет он того или не хочет. И я, собственно, в это верила. Действительно, раньше я засыпала, как только моя голова касалась подушки. И всегда летала во сне.
А тут, стоило ему исчезнуть из дому, я не находила себе места. Вплоть до того, что в обморок падала от напряжения. А когда с трудом добиралась до кровати и в изнеможении валилась на нерасправленное белье, глаза мои моментально открывались. Под веки словно песку сыпанули, спать хочу — сил нет, а сердце ноет, душа болит, суставы выворачивает. Проваляюсь так час-другой и снова на улицу. Все глаза проглядывала, ждала. Виски лопались.
Это сейчас рассказывать легко, знали бы вы, каково мне тогда было! Эх ма… — Ирина снова замолчала, погрузившись в свои воспоминания.
— Ну вот, отвлеклась я. Сижу, кровь из носу нужно зачет сдать, выгонят ведь. И за неуспеваемость, и за прогулы…
Он, скотина эдакая, заваливается и жрать просит. Причем так именно и просит: «Жрать дашь или как?»
— Возьми, говорю, в холодильнике борщ, а сама от книжки не отрываюсь. Вдруг, бах! Мимо моего лица летит кастрюля и прямо в стенку передо мной. Борщ на занавески, на пол, на обои. Я, как щенок, в угол забилась и смотрю на него. Страшно, аж жуть. Все во мне дрожит от ужаса. А он почувствовал… мой ужас. Наплывает на меня медленно и неостановимо. Глаза пылают, зубы скрипят…
— А ты? — Без ума от гнева и потрясения Алинка прижала к застывшему рту холодную ладошку.
— Я? Я дурочка была, боялась. Если бы не боялась, все бы иначе вышло. Это я уже потом поняла, когда бояться его перестала. А тогда я лепетала что-то несуразное, прощения непонятно за что просила, плакала, умоляла его не бить меня. А он накатывал на меня, и я чуть с ума не сошла.
Потом он вдруг изменился и сказал так самодовольно:
— Смотри у меня, я не люблю, когда со мной фамильярничают.
— Господи, — прошептала Алинка.
— Я расплакалась, выползла из своего угла. В прямом смысле этого слова — на четвереньках. Разула его, спать уложила и уже в постели стала откармливать чем-то. Бутербродом, что ли. От него перегаром прет, грязью, потом. Меня от такого букета мутит, а я кормлю его, целую, поспать уговариваю. Есть люди, которые выпьют — и спать, а есть, которых на подвиги тянет. Так вот он — из второй категории.
Еле уложила, разве что колыбельную не спела, и рада бы, да голос дрожит, срывается. Руки такую морзянку колотят, что и не придумаешь. Захрапел он, и я как будто маленько отошла. Собрала в себе силы — и за стол, учебник читать.
И вдруг — бах!
Дыхание Алинки остановилось, рот открылся, а волосы чуть дыбом не встали, до того эмоционально и живо представила она себе эту сцену.
— Я падаю, — Ирина понизила голос почти до шепота, так что всем пришлось напрячь слух. — Я падаю и ничего не вижу. И не понимаю ничего, и не чувствую. Просто падаю, как в замедленных съемках: ни страха, ни боли. Будто и не я падаю, а на кого-то со стороны смотрю. Но где-то в подсознании понимаю, надо узнать, что это такое было. Медленно поднимаюсь и смотрю туда, откуда пришло ЭТО. Что это — я пока не в состоянии сообразить. И снова — БАХ! Я снова падаю, так и не успев повернуться до конца и увидеть, что же все-таки за сила швыряет меня на пол. Я поворачиваюсь и тут только вижу летящий мне в лицо огромный, синий, почему синий? — пожимает Ирина плечами, как будто только сейчас ее затронул этот вопрос, действительно, почему синий — кулак? Кулак и глаза. Глаза над кулаком. Безумные, жуткие, узкие и налитые кровью. Я падала и вставала, падала и вставала, падала и вставала. Я видела, как хлещет кровь, как она забрызгивает пол, стол, книгу. Как она попадает на потолок, и как, словно молот, с невероятным уничтожающим постоянством летит мне в лицо синий кулак.
— Надо же, животное какое-то, — шокированно прохрипел Вольдемар.
— Животное? — Ирина посмотрела на него с нескрываемым презрением. — А еще я видела, что дверь в нашу комнату, мы жили тогда в общежитии, приоткрыта. И в этом проеме стояли и смотрели еще двое таких животных. Они не били, они просто стояли и смотрели. Два здоровых, сильных мужика. Один из них — сосед через стенку, к тому же преподаватель в моем училище. Крепкий такой, высокий. Морда — во. Бицепсы, трицепсы и прочее. Другой — его, то есть моего мужа, приятель. Он ко мне подбивал клинышки, как только муженек в запой, этот тут как тут, соловушкой разливается. Да что ж ты с ним живешь? Да на кого же ты свое здоровье гробишь? Да и зачем же ты свою молодость губишь? Женщину любить надо, лелеять. О ней золотым перышком на цветочной пыльце писать положено, а он из тебя кровушку сосет. Я улыбалась ему и всегда очень вежливо, чтобы, не дай Бог, не обидеть, отказывала. Не могла я тогда, не умела еще изменять. Хоть и никудышный муж, но муж. По гроб жизни — один.
Они потом знаешь, что мне говорили? «Ты на помощь не звала, вот мы и не решались войти». Представляешь? Я — не звала. Он бы меня там размозжил, растерзал бы, уничтожил, и, если бы я не звала, они бы так и не вошли.
Алинку даже передернуло, а Вольдемар положил узкую ладонь на свой широкий лоб, словно охлаждая возникший жар, и произнес:
— Ну правильно… Как они могли войти в чужую комнату? Муж и жена…
Ирина обреченно взглянула на него и замолчала.
— А дальше? — как полоумная, посмотрела в покрасневшее лицо Ирины Алинка. — Чем это… как закончилось? — Прерывистое дыхание Алинки стало громким и свистящим. У нее все еще побаливало горло, а сейчас, в минуты волнения, его сдавил какой-то сухой спазм. Алинка отхлебнула чаю из стакана, который предназначался отцу.
— Закончилось это тем, что в голове моей вдруг все поплыло, закачалось, как в лодочке на волне. Мне стало хорошо-хорошо, и я провалилась в черноту. Потом я пришла в себя, муж лежал рядом с лицом цвета подсиненного, только что выстиранного белья. На лбу у него бисером рассыпались капельки пота, а в глазах стояли слезы. Он промокал мои щеки от крови влажным полотенцем, смотрел на меня сумасшедшим взглядом и шептал: «Ирочка, кто это тебя так? Кто это, Ирочка?»
А для меня он стал пустым местом. Ничтожеством. Я попросила вызвать врача, а он запричитал, противно так, мерзко: «Меня же посадят. Врач должен будет вызвать милицию, составят акт…» — Ира набрала полные легкие воздуха и медленно выпустила его через ноздри. — Но самое главное — я перестала его бояться. Я стала его презирать, а разве можно бояться человека, которого презираешь? Нет. Его можно только презирать, и ничего более.
Мы еще пытались склеить семью. Странное идиотское воспитание. Я не посмела рассказать маме об этом случае, но мама почувствовала, что у нас неладно. Она все допытывалась, плакала, а я не смела рассказать, боялась причинить ей боль. Свою боль носишь и не задумываешься о ее тяжести, а на чужую смотреть страшно. А чтобы доказать матери, что у нас все в порядке, и поддавшись бесконечным слезным просьбам мужа, который утверждал, что все идет наперекосяк оттого, что у нас семья — не семья без ребенка, я родила сына.
Но все равно рок, или судьба, или Вышняя сила, Космический разум, назовите это как угодно, все расставили по местам.
Ирина посмотрела в глаза Алинке.
— Не грусти, малыш, все идет так, как должно идти. И с каждым испытанием мы становимся мудрее. Не грусти.
Алинка смотрела, как сбегают между холмами мутные струйки речек, как блестят под вечереющим солнцем овальные зеркала озер, как мелькают меняющиеся золотые пейзажи, и тяжело, словно все это происходит с ней, переживала рассказ Ирины. Потом солнце село, сумрак укрыл своим сургучным покровом заоконную даль, погасили свет в поезде, и все улеглись спать.
И только Алинка сидела, скрестив под себя ноги, и провожала взрослеющим взглядом мерцающие точечки проплывающих в обратном направлении редких окошек.
2
Алинка ехала в новеньком «икарусе» и смотрела на Будапешт. «Красивый город», — думала она. Ее мысли путанно перескакивали то с воспоминаний о матери на воспоминания о родном городе, о школьных подругах и Антошке. То с воспоминаний об отце, сидящем за пианино и негнущимися пальцами играющем «Собачий вальс», на воспоминания об Англии, то еще с каких-либо других воспоминаний на мысли о сегодняшнем дне.
Алинка отчетливо помнила ту поездку. До каждой секундочки могла восстановить время переезда из старой жизни, в которой она была еще ребенком рядом с милой мамочкой и любимым Витькой, в жизнь новую, пугающую и необычную. Слово-то какое — Москва. Москву Алинка видела только по телевизору, и казалась она ей какой-то далекой и нереальной. Такой нереальной, что она уже готова была усомниться в ее заправдашнем существовании.
Алинка вспомнила Иру. Ее рассказ о муже. Вольдемара. Отца, который проспал всю дорогу. Или не проспал, а просто не хотел и не мог участвовать в разговоре под гнетущим впечатлением похорон и прощания с друзьями. Алинка поняла, не тогда, а гораздо позже, когда сама достаточно повзрослела и стала жить вполне самостоятельной жизнью, что это только с виду отец был холоден и непробиваем, а в душе он страдал не меньше, чем она, а может, и больше.
Поезд ехал долго-долго, а приехал быстро. Раз — и Москва. Проводники в фирменных синих костюмах с белыми крахмальными рубашками и нагрудными знаками на лацканах.
Дядя Петя с женой. Они бегут вдоль поезда рядом с вагоном и заглядывают в открытое наполовину окно. Отец высунул голову и кричит что-то своему старинному другу. Жена дяди Пети размазывает слезы по щекам и машет большим букетом из культурных клумбовых ромашек.
Алинка все это помнит уже не очень хорошо. Она сама вдруг стала плакать, даже забыла попрощаться с Ириной и Вольдемаром. Только краем глаза заметила, что они пошли в разные стороны. Ирину ждала машина и встречал какой-то высокий мужчина с темными татарскими глазами. Его белый костюм и черные глаза — только и всего, что запомнила Алинка. Ирина торопливо ушла с ним, радостно, вприпрыжку, словно девочка, унося свое легкое тело. Вольдемар растворился в толпе как-то сразу. Моментально. Вышел, повернулся спиной — и нет его.
Жена дяди Пети протянула Алинке букет и стала ее целовать, размазывая теперь уже по Алинкиному лицу свои окрашенные тушью черные слезы и жирную блестящую помаду.

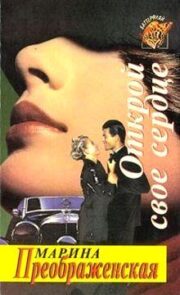
"Открой свое сердце" отзывы
Отзывы читателей о книге "Открой свое сердце". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Открой свое сердце" друзьям в соцсетях.