Мэгги на мгновение ушла в мир собственных воспоминаний. Она была самой давнишней подругой Лайзы, однако теперь их пути разошлись. Этот дом, великолепие свадьбы символизировали ту пропасть, которая пролегла между ними. В прежние времена были тяготы и горести в гимнастическом зале Уэст-Палма, наспех проглоченные в закусочных гамбургеры, радости и заботы создания собственного бизнеса, который они обе так любили, а она – любила по-прежнему. Однако теперь закусочные уступили место сервису Джона Санкела, деликатесам, которые были любовно расставлены на покрытых белой кисеей и муаровой тафтой буфетных столах, тянувшихся вдоль стен огромной столовой за дверью. Много лет назад в квартире Лайзы, давно уже превратившейся в подземный гараж небоскреба на Саут-Флэглер, стояли в горшках ареки и яркие бальземины. Здесь же были темно-пурпурные и белые орхидеи, гирлянды зеленых виноградных лоз, которые вились над буфетными столами в таком изобилии, что дух захватывало; они свободно ниспадали на безупречные скатерти и сплетались в вазах с сочными тропическими фруктами: киви, папайя и мускатным виноградом. Мэгги наблюдала за маленькой армией официантов в белых сюртуках, готовых принять толпу свадебных гостей; она слышала, как неувядающий Питер Дачин разминает пальцы на рояле «Стейнвей»; она старалась не попасть в вездесущий объектив Боба Давидоффа, который видел светских свадеб больше, чем любой смертный; и еще она отметила скромные цветы на четырехъярусном свадебном торте, заменявшие крошечные фигурки невесты и жениха, которые, по обычаю, предпочла бы она, как и вся остальная Америка. Возможно, сами по себе все это были мелочи, однако, они говорили о многом. Все это были элементы того условного языка, по которым эти люди узнавали друг друга. Это было тайное общество со множеством знаков и сигналов, жестов и невысказанных намеков. Что-то было «принято». Что-то было «не принято». Этому никто не учит. Этому нельзя научить. Это постигается постепенно. Когда принадлежишь к ним. Когда живешь этой жизнью. Уже в подростковом возрасте ты можешь за сорок футов распознать чужака. Это так же просто, как и невероятно. Какие правила требовали, чтобы было восемь подружек невесты – и все в одинаковых платьях пастельных тонов? Кто решил, что свадебные подарки должны быть выложены на всеобщее обозрение на покрытых белым дамастом столах в библиотеке? Почему имеется шампанское «Тейттинджер»? Все это оставалось загадкой, и Мэгги не могла избавиться от чувства, что она здесь совершенно посторонняя.
Мэгги повернулась, чтобы взглянуть на Лайзу, и тут же ее сердце наполнило знакомое чувство любви. Лайза, которая так много страдала, и вот наконец оказалась на вершине счастья. Но отчего в лице Кристи ни кровинки и так смертельно бледен Скотт? Отчего на них смотрит Кэролайн Стэнсфилд, и на ее старушечьем лице стало еще больше морщин – от волнения и тревоги? Как только эти беспокойные мысли взбудоражили ее деятельный ум, Мэгги ощутила подспудные вибрации. «Боже, должно случиться что-то ужасное». Она почувствовала, как ее рука непроизвольно потянулась ко рту, а язык пересох. «Нет. Ни в коем случае. Не в этот долгожданный момент. Неужели последними гостями на этой свадьбе станут тени отцовских грехов?»
Глава 1
Бобби Стэнсфилд поймал волну, и на короткое мгновение мир оказался в его руках. Доска под ногами подпрыгивала и взбиралась ввысь, а вместе с ней взлетело и сердце. Вечерело, утомленное солнце склонилось за пальмы, по поверхности моря побежали золотые танцующие тени. Последний вечерний бурун, и, кажется, он будет сегодня лучшим.
Словно птица-мститель, Бобби планировал на пляж, согнув тело в классической для серфинга позе, и пока он летел к песку, душа его тоже парила – благодарная за этот день и за его красоту. В жизни Бобби таких моментов было немного, и в свои тринадцать лет мальчик уже научился распознавать их.
Теперь волна почти что спала. Бобби намеревался использовать ее до конца с шиком. Почувствовав, как иссякает энергия доски, он изогнул дугой спину, напряг ноги, а затем с криком, похожим на прощальный, ринулся в бледно-голубое небо Флориды. Тело Бобби очутилось в объятиях хаоса, а в глазах рассыпался сумасшедший калейдоскоп объемных красок. Небо, скользящие облака, розовая пляжная кабинка, пузырящаяся, как шампанское, вода сменилась теплой темнотой под волнами Норт-Энда. Несколько секунд Бобби несся по воле течения, уверенный, что его не подведут сильные руки и ноги, принимая удары откатывающихся назад волн. Он ощутил на своей груди жесткий песок, стук в ушах от растущего давления – и вот он уже плыл вверх, чтобы вновь вернуть себе тот мир, который он совсем недавно покинул. Бобби вырвался на поверхность. Фантазии уступили место реальности.
Этот путь он проделывал тысячи раз. Сотня ярдов по еще теплому песку, еще сотня – по выцветшему пляжному настилу к пузырящемуся гудрону дороги. Иногда он этот путь проделывал со смехом и шутками – если возвращался домой с другими серфингистами, у которых из-под мускулистых, бронзовых от загара рук свисали доски, а покрытые пятнами соли волосы трепал и ерошил поздний летний бриз. Сегодня, однако, Бобби был один, и это его радовало. Скоро он вернется в огромный, пульсирующий энергией дом, с урчанием и скрежетом двигателей его непрерывной, напряженной деятельности, от которой невозможно было ни отвлечься, ни убежать. Бобби забрался на велосипед, небрежно перебросил доску под мышку и покатил по бульвару Норт-Оушн.
У величественных ворот особняка он неожиданно решил изменить свой маршрут. Почему-то захотелось еще разок взглянуть на волны. Иногда можно по небу, по бризу, по поведению ныряющих пеликанов предсказать, какой будет прибой на следующий день. Поэтому, оставив доску и велосипед, как обычно, в просторном гараже, Бобби скользнул вдоль стены огромного дома в сторону волнореза, который защищал особняк от непредсказуемого моря.
В его маршрут входил кабинет отца – круглая комната, пристроенная к дому в постмизнеровском стиле. Бобби но привычке бросил быстрый взгляд в окно. Все в семье благовели перед производящим внушительное впечатление сенатором. Все, за весьма примечательным исключением матери. Иногда отец здесь надиктовывал речь перед большим письменным столом с тумбами, снисходительно выговаривая зычным голосом высокопарные банальности и в высшей степени удовлетворенно улыбаясь в предвкушении реакции какой-то будущей аудитории. Или же он смотрел бейсбол, с удовольствием потягивая из толстого хрустального бокала в правой руке темно-янтарный бурбон, который любил пить вечерами. Изредка, царственно положив ноги на скамеечку с гобеленовой подушкой, со смятым номером «Уолл-стрит джорнэл», покоящимся на его все еще поджаром животе, он смачно похрапывал в кресле, обитом потертым мебельным ситцем. Сегодня, однако, занятие у него было совершенно иного рода. Он занимался с кем-то любовью на диване.
Бобби Стэнсфилд замер, а его светло-голубые глаза на мальчишечьем лице чуть не вылезли из орбит. Вопрос «что делать?» не возник ни на мгновение. Не каждый день сыну доводится видеть отца за таким занятием, и Бобби не собирался упускать ни миллисекунды этого зрелища. В нем боролись противоречивые чувства – страх, возбуждение, любопытство, отвращение: они переплелись, как две непристойные фигуры на диване в кабинете. Бобби был в ужасе, однако юношеская любознательность прочно удерживала его на месте.
Сенатор Стэнсфилд был явно не Рудольф Валентино. Он занимался любовью с той же осторожностью, мягкостью и изощренностью, которые всегда были характерны для его чрезвычайно успешной политической карьеры. Это была фронтальная атака, позиция с четко выраженной задачей; все более тонкие оттенки чувств были отброшены. Горячий влажный воздух выносил раздражающие звуки половой активности из открытого окна и неловко смешивал их с другими звуками наступающего во Флориде вечера – тихим шипением поливальных машинок на газонах, приглушенным грохотом прибоя – и были для Бобби, пожалуй, самым неприятным аспектом во всем этом удивительном деле. Никто не подготовил его к этому на школьном дворе, где «правда жизни» была так же доступна, как выпивка и сигареты.
Кто же, черт побери, эта девушка? Ответ подсказали длинные загорелые ножки. Белые туфли, рискованно оставленные на ногах, подкрепляли вывод. Это была Мэри Эллен. Без сомнения. Горничная матери. Боже! Бобби бросило в жар и холод, когда в его мозгу лихорадочно пронеслись мысли о последствиях. Во-первых, вопрос об интиме с наемной прислугой. Второй, и гораздо более удручающий вопрос – о ревности. В понимании Бобби Мэри Эллен обладала всеми достоинствами прекрасного ангела, и Бобби был не на шутку влюблен в нее. Она была веселой, яркой и жизнерадостной – то есть имела все те качества, которых столь явно не хватало его трем плосколицым сестрам, – и Бобби менее всего ожидал увидеть ее под собственным отцом на диване.
Бобби наблюдал за ними, как зачарованный. Ни любовник, ни любовница не посчитали нужным снять одежду. Ярко-зеленые поплиновые брюки отца свободно болтались на уровне колен, а рубашка цвета морской волны, от братьев Брукс, по-прежнему прикрывала верхнюю часть его могучего торса. Мэри Эллен также не тратила времени на раздевание, – через широко распахнутое окно Бобби видел белое хлопчатобумажное форменное платье, задранное до талии, и даже разглядел хлопчатобумажные карамельно-розовые полосатые трусики. Бобби вновь охватило отвращение, однако кровь Стэпсфилдов подсказала ему, что пристальное наблюдение за этой сценой может дать ему некие преимущества. Эмоции могу быть рассмотрены позднее. Сейчас же главное – уловить действие.
И тут, совсем неожиданно, на него, словно приливная волна, обрушилась эта мысль. Мать! Известно ли об этом матери? Как же, Господи, она поступит, если узнает об этом?
Но пока Бобби мучительно разбирался с мыслями о матери, возня на диване подошла к заключительной фазе. Мельтешащие конечности любовников закрутились, как в водовороте, последовало бешеное убыстрение темпа. Неожиданно ноги Мэри Эллен как бы потеряли координацию и пустились в диком ритме молотить воздух, трястись, дергаться и вибрировать от охвативших ее конвульсий. Наконец отец словно отключился – рухнул, обессиленный, точно марионетка, у которой внезапно перерезали веревочку.
Бобби – невольному наблюдателю, свидетелю отцовской неверности, обманувшемуся в той Мэри Эллен, которая жила в его мечтах, – показалось, что в это короткое мгновение детство его ушло навсегда.
Бобби угрюмо смотрел на стеклянную поверхность моря, расстилавшуюся за отутюженными газонами. Было лишь одиннадцать часов, но солнце уже диктовало свои условия красавице Палм-Бич, своей рабыне и любовнице. Легкий утренний бриз спал, и ленивым пеликанам, которые до этого легко парили в воздушных течениях, теперь приходилось бороться за свою добычу. Во влажной жаре только они проявляли признаки какой-то деятельности. Сам Бобби лежал на покрытом белым полотенцем шезлонге, и южное солнце покрывало его юношеское тело медово-коричневым загаром. Из транзисторного приемника рядом с ним доносилось пение Конни Фрэнсис.
Отношение Кэролайн Стэнсфилд к прямым солнечным лучам было прямо противоположным. Оберегая свою нежную, белую, словно лилия, кожу, она сидела под огромным парусиновым зонтом кремового цвета, недоступная для лучей, вызывающих морщины. Ее неприязнь к солнечному свету считалась в семье некой причудой, и остроты на этот счет были допустимы, Кэролайн обычно присоединялась к этим, в общем-то, традиционным шуткам на свой счет, и когда в семье осторожно посмеивались над нею, ее мелкие и четкие черты лица освещала одна из ее улыбок. Во многих отношениях эта склонность оставаться в тени символизировала ее роль в семье Стэнсфилдов. Считалось общепризнанным, что быть центром внимания – удел общительного, дружелюбного сенатора и, в меньшей степени, шумных детей. Однако это не роняло несомненного авторитета Кэролайн. Когда Кэролайн Стэнсфилд говорила, что случалось не часто, все слушали, и никто не мог объяснить точно, почему. Была ли тому причиной родословная, тянувшаяся из восемнадцатого века? Или то, что ей принадлежало довольно значительное количество акций Ай-би-эм? Или спокойная, неоспоримая уверенность ее аристократического голоса? Никто этого не знал. Однако было несомненно: это не имело никакого отношения к ее физической привлекательности. Возможно, когда-то внешность ее была «приятной» – таким эвфемизмом пользуются богатые и знатные для обозначения внешности, которую менее удачливые люди называют «простой», – однако годы взяли свое. Широкие, отлично приспособленные для деторождения бедра сработали нормально, однако шестеро детей – причем двое, как Макбет, были извлечены «до срока из утробы материнской», с помощью кесарева сечения – не способствовали улучшению фигуры. Следствием кормления грудью, как того требовала религия от матери – источника всего сущего, стал огромный и бесформенный бюст. Короче, в качестве объекта сексуального влечения Кэролайн Стэнсфилд оставляла желать много лучшего, и в результате сенатор Стэнсфилд перед каждым исполнением супружеского танца плодородия со своей несоблазнительной, но феноменально влиятельной женой всегда требовал стакан водки; нынче же он вовсе избегал ее спальни. Большинство людей и не догадывались, что сама Кэролайн предпочитала именно такой порядок вещей.

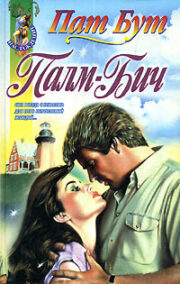
"Палм-бич" отзывы
Отзывы читателей о книге "Палм-бич". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Палм-бич" друзьям в соцсетях.