Шэй все еще никак не мог поверить:
– Если есть какие-то перемены, то сначала они сообщают в комитет, командиру, мне значит, а потом тот уже передает, кому полагается. Вот как это делается.
– Не знаю, может на этот раз они решили все сделать по-другому.
– А может быть это чьи-нибудь козни?
– Какие козни? Кому, кроме нас дело до того, где я работаю, в Бельреве или в Глэнкри? Кого это волнует, черт возьми?
– Не знаю, – признался Шэй. – Но с этими чертовыми англичанами никогда ведь не узнаешь, чего они хотят. Они вечно нас выслеживают, шпионят. Они же хитрые, как змеи. И такие же ядовитые.
– Никакие это не шутки, – О'Лэйри взял у него записку и положил ее обратно в карман рубашки. – Какой им смысл шутки шутить?
– Но ты же не поедешь туда сразу, сначала я должен переговорить с комитетом.
– Конечно, поеду. А чего мне не ехать? Если это шутка, так агент скажет, что, мол, не знаю тебя и в глаза тебя никогда не видел. Ведь я же с ним там встречаюсь, с агентом этим. – Он хлопнул себя по нагрудному карману рубашки. – Там так и сказано в записке.
– А что за работу они хотят тебе там дать? О'Лэйри пожал плечами.
– Откуда мне знать? Но что бы мне там не пришлось делать, хуже, чем быть на побегушках у этого чертового Уинстона, быть не может.
Шэй наклонился к нему близко-близко и, обдавая его своим смрадным дыханием, медленно стал говорить.
– Ты подождешь, пока я не переговорю с комитетом, или тебя прикончат. Понятно? Как именно – это они сами уж решат.
– Нет, я… – О'Лэйри замолчал и покачал головой.
В глазах Пэдди Шэя была дикая злоба, но не ее испугался О'Лэйри. Мальчик был в фениях с двенадцати лет и не представлял, как можно нарушить клятву.
– Ладно, – в конце концов, сказал он. – Ты с ними поговоришь, Пэдди. – Выясни, могу ли я отправиться в Глэнкри, посмотреть, что там меня ожидает.
Кордова
Три часа пополудни
Чарльзу приходилось довольно много раз бывать в Уэстлэйке. Он бродил и по самому этому большому дому, и по бесконечным участкам и уяснил себе, что до тех пор, пока его тетя Кэролайн не осчастливит себя и Джемми наследником мужского пола, вероятность чего с каждым годом уменьшалась, это имение, в конце концов, перейдет в его владение. Он и Тимоти были ближайшими его родственниками мужского пола, причем Чарльз был старшим. Следовательно, и титул лорда и собственность достанутся ему. Будучи еще очень молодым, он и тогда твердо знал, что это так и будет и уже тогда научился находить утешение в размышлениях об этом, но пышность и великолепие его будущего имения враз померкли, стоило ему оказаться в Паласьо Мендоза в Кордове.
Дворец этот был таким, каким не был и не мог быть ни один дом или даже дворец в Англии, пусть даже самый большой и очень импозантный. Может быть, все дело в его расположении: дворец находился в центре города. Он возвышался здесь, окруженный огромными стенами, весь дом дышал таинственностью. Он шептал Чарльзу свои секреты, когда он переходил из одного, утопавшего в роскоши помещения, в другое. А какими замечательными были эти патио – внутренние дворики. Ему говорили, что всего их было здесь четырнадцать, но ему еще не удалось побывать во всех. Каждый из них чем-то отличался от своего собрата, каждый всегда неожиданно возникал перед глазами, стоило лишь свернуть за угол или пройти через тот или иной.
Сейчас он находился в патио под названием «Патио де лос Наранхос». Он представлял собой вытянутый прямоугольник с помещавшимся в нем водоемом, выложенным великолепными кафельными плитками, в котором отражалось небо; окружавшие его апельсиновые деревья, которым он и был обязан своим названием. Сейчас деревья были в цвету, ему ни разу в жизни не приходилось ощущать такого опьяняющего аромата.
– Ах, вот ты где, Чарльз.
Он обернулся, услышав голос Франсиско. Хвала Богу, этот человек говорил по-английски, хоть и с ужасным акцентом.
– Он уже здесь? – спросил Чарльз.
– Управляющий банком? Да, он уже пришел. Он ждет нас там.
Чарльз еще раз взглянул на апельсиновые деревья и неохотно покинул это тихое место:
– Как здесь красиво, – бормотал он.
– Да, да. Здесь все очень красиво, правда? А ты же Мендоза, и тогда все эти старые историк для тебя должны быть еще интереснее. Они ведь адресованы тебе.
– Что за старые истории?
– Легенды. Сколько комнат здесь или патио, столько и легенд. Каждая семья имела свою легенду и не одну. Ты об этом не знал? – Чарльз покачал головой. – Эх, жаль, что нет Беатрис, – сказал Франсиско, – она все их знает наперечет и столько бы могла рассказать тебе. Она любит их рассказывать. – Но сейчас, я думаю, мы должны, – он сделал жест в сторону двери, располагавшейся под аркой.
– Да, конечно.
Чарльз медленно побрел за Франсиско.
Вначале он подумал, что они встретятся с управляющим в той же самой маленькой комнатушке, где его принимал Франсиско в первый вечер, как только Чарльз прибыл во Дворец. Он еще тогда объяснял, что это помещение – самое старое во дворце и глава семьи обычно использовал его как рабочий кабинет. Но теперь они направлялись куда-то еще. Франсиско вел его через какие-то коридоры, выложенные плиткой, полы в которых покрыты турецкими коврами, а стены увешаны шпалерами. Чарльзу показалось, что они находились в восточном крыле дворца, но сейчас он не был в этом уверен: им так много раз приходилось менять направление, куда-то сворачивать, что он перестал ориентироваться. Они зашли в большую комнату, вдоль стен которой тянулись бесконечные книжные полки. Перед тем как войти, Франсиско гостеприимным жестом распахнул дверь и пригласил молодого человека пройти первым. Там их ожидал еще один человек. Он сидел у большого дубового стола, покрытого гобеленовой скатертью. Едва они вошли, как он поднялся и, склонив голову в вежливом поклоне, приветствовал обоих.
– Это сеньор Мартин, – представил мужчину Франсиско. – Он не говорит по-английски, я буду переводить.
Мужчины поздоровались за руку. Управляющий банком был весь в поту. Кроме этого, Чарльз заметил, что этот сеньор Мартин избегал встречаться с ним взглядом.
Почти весь стол заполняли бесчисленные гроссбухи. Мартин показал на них рукой и что-то произнес по-испански.
– Он сказал, что все, что вам понадобится, находится здесь, – пояснил Франсиско. – Теперь снова говорил сеньор Мартин. – Он утверждает, что если вы проверите все цифры, то сможете убедиться, что причин для беспокойства нет.
Чарльз кивнул, и все трое уселись за стол. Чарльз осторожно, боковым зрением, изучал управляющего.
Вечером в воскресенье его свояк, казалось, был на грани нервного срыва, сегодня он проявлял большую выдержку и рассудительность. И справедливости ради, следовало бы отметить, что Франсиско с каждым днем обретал присутствие духа. Отчасти это можно было приписать тому, что он внутренне уже смирился с тем, что ему предстояло отречение от престола в пользу Лондона. И чем дольше Чарльз находился здесь, тем больше крепла его уверенность именно в таком исходе. Франсиско уйдет от ответственности и будет спокойно проживать то, что ему удалось отложить.
– Сначала текущие счета, пожалуйста, – попросил Чарльз, и подождал, пока Франсиско переведет его слова.
Управляющий кивнул, раскрыл перед ним один из гроссбухов и все занялись изучением текущих счетов.
Лондон
Четыре часа пополудни
Кауттсы помещались в том же здании, что и сто лет назад. Здесь не было засилья старинных дорогостоящих игрушек и всякого рода раритетов, как во владениях Мендоза, это место пропахло старой кожей, старым деревом и добротными капиталовложениями. Сто лет назад король Джордж III разместил здесь свой приватный вклад, открыв счет у Кауттса, и с тех пор этот банк стал банком, услугами которого пользовалось королевское семейство, что, конечно же, никак не могло повредить репутации этого старого банка.
– Входите, Норман, – Хаммерсмит отворил двери в просторный кабинет. – Рад, что вы пришли.
– Вряд ли я смог бы отказаться от этого визита, – пробормотал Норман.
Он обвел взглядом комнату, кроме них в кабинете никого не было.
– Не думаю, что есть необходимость расширять круг лиц, которые посвящены в это дело, – сказал Хаммерсмит, перехватив ищущий взгляд Нормана Мендозы.
– Нет, конечно. И я ценю такое отношение ко мне.
– Садитесь, пожалуйста.
Они уселись визави за широким столом красного дерева. Единственными предметами на его полированной поверхности были серебряный чернильный прибор, стопка белоснежной промокательной бумаги, хрустальная ваза с единственной розой и синяя кожаная папка, перевязанная черной ленточкой. Хаммерсмит возложил руку на нее.
– Как я понимаю, все находится именно здесь? – поинтересовался Норман.
– Да.
– Я могу на это взглянуть?
– Конечно.
Хаммерсмит развязал ленточку и открыл папку. Облигация лежала поверх других бумаг. Он изъял ее из стопки и подал Норману через стол. Тот взял: ее, с Удовлетворением отметив, что его руки не дрожали. Он читал написанное на ней медленно, с толком, вникая в каждое слово, стараясь не пропустить ничего, что могло бы поставить под сомнение подлинность документа. Еще до того, как он дочитал до середины, он убедился в том, что ничего такого, что говорило бы в пользу искусной фальшивки не было, и быть не могло. Ни малейшего сомнения не могло быть и в том, что это был почерк его дедушки Лиама: ему приходилось неоднократно читать его записки, когда он перебирал семейные архивы. И стиль Лиама тоже нельзя было спутать с ничьим: простой, без выкрутасов язык документа.
«В обмен за услуги личного характера, оказанные мне и данные мне гарантии, я обещаю и клянусь именем дома Мендоза заплатить держателю настоящей облигации сумму в размере одного миллиона фунтов стерлингов непосредственно по предъявлению данной облигации. На требование о выплате этой суммы временные ограничения не распространяются…»
– Документ подлинный, не так ли? – спросил Хаммерсмит Нормана после того, как тот в течение долгих безмолвных минут изучал облигацию.
Еще одна пауза. Прошла секунда. Две. Ладони Нормана были в поту, во рту пересохло.
– Думаю, что да. Да, – негромко подтвердил он.
Норман пришел сюда, втайне надеясь на то, что он разоблачит эту историю с облигацией как надувательство, фальшивку. Теперь, читая ясные недвусмысленные фразы, написанные почерком его дедушки, он понимал: подлинность этого документа не может вызывать ни малейших сомнений.
Стало быть, облигация была подлинной, и долг в один миллион фунтов стерлингов тоже был реальностью. Если бы он вздумал отрицать факт ее подлинности, то к чему тогда вся его жизнь? К чему легендарная репутация дома Мендоза, его абсолютная честность в делах? Во что бы превратилось все это, начни он здесь оспаривать заведомую подлинность документа?
Хаммерсмит видел игру чувств на лице своего посетителя. Он наклонился к Норману:
– Норман, ради всего святого, ответьте мне откровенно, как обстоят дела в действительности? Вы в состоянии заплатить? Платежеспособны Мендоза или нет?
Еще какой-нибудь месяц назад он бы ответил ему с недоумением и бравадой в голосе. Никаких колебаний возникнуть бы не могло. Но теперь? После тех часов, которые он провел, стоя у кровати Тимоти, в попытке отделить двуличие сына от своей собственной трагедии, после многих часов раздумий о пригодности Чарльза взять на себя банк, после многих часов анализа и переоценки собственной жизни, своей вины в том, что сейчас происходило – после всего этого у него не хватало духу ни лгать, ни изворачиваться.
– Нет, – тихо произнес он. – Мы не в состоянии выплатить такую сумму, во всяком случае, не в десятидневный срок. Дела наши не настолько хороши сейчас.
Хаммерсмит откинулся и закрыл глаза.
– Именно так я и думал. В тот день, когда мы сидели в этом пабе, я впервые понял, что слухи имеют под собой почву. Слухи впервые появились, когда этот Парагвайский заем оказался пустой затеей. Но тогда я не обратил на них никакого внимания. Ну, в конце концов, это ведь не кто-нибудь, а Мендоза. Столько лет они были крупнейшим европейским банком. Это казалось мне невозможным. Но тогда… Тогда я увидел у вас в глазах что-то такое, что убедило меня…
– Если полетим в пропасть мы, то и вы не сможете уцелеть, – сказал Норман.
Он решил быть честным до конца. Сейчас настало время бороться любым оружием, которое имелось в его распоряжении. Как там тогда говорилось в той проповеди? – Всему свое время, и время всякой вещи под небом. – А теперь подошло время когтями выдираться из этой беды, выкарабкиваться из этой ямы.
– Начнется невиданная паника и весь Сити столкнется с очень серьезным кризисом доверия в той же мере, как и беспрецедентным, – продолжал Норман.

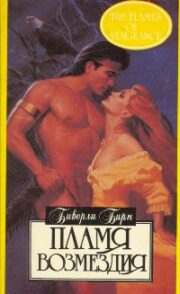
"Пламя возмездия" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пламя возмездия". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пламя возмездия" друзьям в соцсетях.