— А с тех пор ничего не кушали?
— Нет. Как могла я есть, когда так беспокоилась о папа?
Ричард с упреком покачал головой.
— Дорогая моя Нелли, — сказал он — Вы обещали мне сейчас полагаться на Провидение. Я отвезу вас поужинать, а потом вы должны обещать мне воротиться домой и хорошенько заснуть.
— Я послушаюсь вас, Ричард, — покорно отвечала Элинор— Но, пожалуйста, прежде отвезите меня домой посмотреть воротился ли папа.
Живописец несколько минут не отвечал на эту просьбу, но вдруг сказал рассеянным тоном:
— Делайте, как хотите, Нелль.
Он велел кучеру ехать на Архиепископскую улицу, но не выпустил Элинор из- фиакра, когда он остановился у лавки мясника, хотя Элинор очень хотелось бежать домой.
— Оставайтесь здесь, Нелль, — сказал он повелительно. — Я пойду и расспрошу.
Элинор послушалась. Она ослабела и истощилась от бессонной ночи, от продолжительного дня, исполненного волнений и беспокойства, и была слишком слаба, чтобы спорить со своим старым другом. С отчаянием глядела она на открытые окна антресолей: они оставались совершенно в том виде, как она оставила их пять часов тому назад. Ни малейший огонек не давал дружеского знака, что комнаты были замяты.
Ричард Торнтон очень долго говорил с женой мясника — так показалось Элинор, — но он очень мало мог сказать ей, когда воротился к фиакру. Мистер Вэн не возвращался — вот все, что он сказал.
Он повез свою спутницу в кофейную близ церкви св. Магдалины и настоял, чтобы она выпила большую чашку кофе с булкой. Более ничего-не мог он уговорить ее скушать, и она просила его посадить ее за один из столов, стоявших на воздухе возле кофейной. Она сказала, что, может быть, она увидит своего отца по дороге на Архиепископскую улицу.
Друзья сели за маленький железный столик несколько поодаль от группы оживленных зевак, сидевших за другими столами и пивших кофе и лимонад. Но Джордж Моуб-рэй Варделёр Вэн не проходил по этой дороге в те полчаса, которые Элинор сидела за чашкой кофе.
Било десять часов, когда Ричард Торнтон пожелал ей спокойной ночи на пороге маленькой двери возле лавки мясника.
— Вы должны обещать мне непременно лечь спать, Нелли, — сказал он, — пожимая ей руку.
— Да, Ричард.
— Смотрите же, сдержите ваше обещание на этот раз. Я приду и посмотрю па вас завтра утром. Бог да благословит вас, милая моя. Спокойной ночи.
Он нежно пожал ей руку, когда она затворила за собою дверь. Ричард перешел через узкую улицу и подождал на другой стороне, пока не увидал огня в одном окне антресолей. Он ждал, пока Элинор подошла к этому окну и задернула его занавесом, а потом он медленно ушел.
«Бог да благословит ее, бедняжку! — прошептал он тихим сострадательным голосом, — бедную, одинокую девушку!»
Серьезная задумчивость его лица ни разу не изменилась, пока он шел домой в гостиницу. Хотя было поздно, когда он добрался до своей комнатки на пятом этаже, он сел за стол и, оттолкнув свою трубку и кисет с табаком, свои краски и кисти, вынул несколько листков почтовой бумаги и маленький пузырек с чернилами из старого кожаного письменного прибора, и начал писать.
Он написал два письма, оба несколько длинные, сложил их, запечатал, и надписал адрес.
Одно было адресовано к мистрис Баннистер в Гайд-Парк, в Бэйсуотер, другое к синьоре Пичирилло на Нрогемберлэндский сквер.
Ричард Торнтон положил оба эти письма в карман и пошел отдать их на почту.
«Кажется, я поступил к лучшему, — бормотал он, — возвращаясь назад в гостиницу. — Я ничего не могу сделать.»
Глава VIII. ДОБРЫЕ САМАРИТЯНЕ
Джордж Вэн не возвращался домой. Элинор сдержала обещание, данное ею верному другу, и старалась заснуть. Она бросилась, не раздеваясь, на маленькую постель, чтобы быть готовой бежать навстречу к отцу, когда бы он ни воротился. Она была совсем изнурена и заснула сном тревожным, прерываемым страшными сновидениями. Она видела отца, подвергавшегося разным опасностям, всевозможным бедствиям и превратностям. То она видела его стоящим на страшной скале, между тем как ему угрожал быстро приближавшийся прилив, сама же она сидела в лодке за несколько шагов от него и боролась с черными волнами, стараясь всеми силами подоспеть к нему на помощь, но напрасно.
То он бродил на краю пропасти — он представлялся ей тогда седым, слабым, сгорбленным стариком — и опять она была возле него, но неспособна предостеречь его от опасности, хотя одним словом могла бы это сделать. Тоска от усилия произнести крик, который спас бы ее обожаемого отца от смерти, разбудил ее.
Но она видела также и другие сны, совсем другого свойства, в которых отец возвратился к ней богатым и счастливым, но она весело смеялась с ним над сумасбродными пытками, какими она мучила саму себя; другие сны опять казались так действительны, что Элинор воображала себя наяву, в этих снах ей слышались знакомые шаги на лестнице, стук отворяющейся двери и голос отца, из другой комнаты звавшего ее.
Эти сны были хуже всех. Ужасно было проснуться после всех этих обманчивых сновидений и узнать, что это был обман. Жестоко было просыпаться к чувству своего одиночества; между тем как звук голоса, который она слышала во сне, все еще раздавался в ее ушах.
Темные часы короткой летней ночи казались ей нескончаемы в этом мучительном, полусонном состоянии, гораздо длиннее казались они, чем в то время, когда она поджидала возвращения отца в прошлую ночь. Каждое новое сновидение казалось медленной агонией ужаса и недоумения.
Наконец сероватый рассвет пробрался сквозь полузакрытые ставни. Элинор не могла долее спать, она встала и подошла к окну, отворила его и упала на колени, положив голову па подоконник.
«Я буду ждать его здесь, — думала она, — Я услышу его шаги на улице. Бедняжка, бедняжка! Я угадываю, зачем он не приходит: он истратил эти противные деньги и ему не хочется воротиться сказать мне это. Мой милый папа! Неужели ты так мало меня знаешь, что думаешь, будто я пожалела бы отдать тебе все до последнего фартинга, если бы тебе он понадобился?»
Мысли ее как-то странно смешались, голова закружилась от беспрерывного натиска одной и той же идеи, когда она подняла спою голову — бедную, усталую, пылающую, тяжелую голову, которая казалась так тяжела, что ее невозможно было приподнять — и выглянула из окна; улица вертелась перед ее глазами, пол, на котором она стояла на коленях, как будто опускался вместе с нею в какую-то странную и черную пропасть, тысячи сталкивающихся звуков — не утренний шум пробуждающегося города — шипели и свистели, ревели и гремели в ее ушах, становясь все громче, громче и громче, пока все не слилось в быстро сгустившемся мраке.
Солнце ярко освещало комнату, когда сострадательная хозяйка дома нашла дочь мистера Вэна на коленях с головой еще лежавшей на холодном подоконнике, ее золотистые волосы струились по ее плечам. Ее тонкое кисейное платье было мокро от утренней росы. Она лишилась чувств и лежала таким образом несколько часов.
Жена мясника раздела ее и положила в постель. Ричард Торнтон пришел через полчаса и тотчас же пошел отыскивать английского доктора. Он нашел одного пожилого человека с серьезным и кротким обращением, который объявил, что мисс Вэн страдает горячкой от сильного нравственного волнения, оп сказал, что она была необыкновенно нервного темперамента, что ее не нужно много лечить, а что ей потребны только спокойствие и тишина. Ее организм, по словам доктора, был прекрасен и мог перенести припадок серьезнее этого.
Ричард Торнтон отвел доктора в смежную комнату, в эту маленькую гостиную, в которой виднелись следы занятий Вэна, и говорил с ним тихо несколько минут. Доктор с серьезным видом покачал головой.
— Это очень неприятно, — сказал он— Лучше было бы сказать ей правду, если возможно, как только она придет в себя. Беспокойство и недоумение напрягли ее мозг. Все будет лучше этого напряженного состояния. Ее организм выдержит удар, но с ее нервной и впечатлительной натурой всего можно опасаться от продолжительного нравственного раздражения. Это, верно, ваша родственница?
— Нет, бедняжка! Как я желал бы этого!
— Но у нее есть близкие родственники, я надеюсь?
— Да, у нее есть сестры — по крайней мере сестры единокровные и братья.
— К ним надо написать немедленно, — сказал доктор, взяв свою шляпу.
— Я уже написал к одной из ее сестер, написал и к другой даме: другу, мне кажется, что в этом кризисе она будет полезнее.
Доктор ушел, обещав прислать лекарства и опять зайти вечером.
Ричард Торнтон вошел в маленькую спальную, где жена мясника сидела возле больной и сводила какие-то счеты в книге в кожаном переплете. Это была молодая женщина с приятным обращением, она очень охотно заняла место возле кровати больной, хотя ее присутствие всегда было нужно в лавке.
— Шш! — шепнула она, приложив палец к, губам. — Она спит, бедняжечка!
Ричард спокойно сел к открытому окну. Он вынул из кармана английскую драму «Рауль», карандаш, половинку старого письма и решительно принялся за перевод. Он не мог терять время, даже когда его приемная сестра лежала больная под занавесами, закрывавшими альков по другую сторону комнатки.
Он сидел долго и терпеливо, переводя «Отравителя» изумительно легко и быстро, и кротко покоряясь лишению для него немалого в потере своей трубки, которую он имел привычку курить во все часы дня.
Элинор наконец опомнилась и начала говорить бессвязно и отрывисто о своем отце, о деньгах, присланных мистрис Баннистер и о разлуке на бульваре.
Жена мясника отдернула занавесы, и Ричард Торнтон подошел к кровати и нежно взглянул на своего молоденького друга.
Ее янтарные волосы были разбросаны на изголовьи, спутанные и растрепанные от постоянного движения ее головы. Серые глаза светились лихорадочным блеском и на щеках, которые были бледны, как смерть, прошлую ночь, горели яркие пятна. Она узнала Ричарда и заговорила с ним, но бред еще не прошел, потому что она смешивала настоящие события с прошлыми и говорила своему старому другу о синьоре, о скрипке, о кроликах. Она опять заснула тяжелым слом, приняв лекарство, присланное ей английским доктором, и проспала почти до сумерек. В этот продолжительный сон ее свежий и крепкий организм вознаградил себя за то напряжение, которому он подвергался последние два дня.
Ричард ушел после полудня и воротился поздно вечером. Жена мясника сказала ему, что больная очень тревожилась и беспрестанно спрашивала об отце.
— Что нам делать? — сказала добрая женщина, с отчаянием пожимая плечами. — Сказать ей?
— Еще не теперь, — отвечал Ричард. — Окружайте ее спокойствием на сколько можете. А если уже непременно нужно сказать ей что-нибудь, то скажите, что отец ее занемог и его нельзя везти домой. Бедняжка! Так жестоко держать ее в неизвестности, а еще более жестоко обманывать ее.
Жена мясника обещала употребить все старания, чтобы окружить спокойствием свою больную. Доктор прислал усыпительное лекарство. Он говорил, что мисс Вэн должна спать как можно больше.
Так прошла другая ночь, на этот раз очень спокойно для Элинор, которая спала тяжелым сном без страшных сновидений. На следующий день она была очень слаба, потому что ничего не ела после той булки с кофе, которую Ричард принудил ее съесть, и хотя с ней бреда не было, голова ее казалась неспособна ни к какому живому впечатлению. Она спокойно выслушала, когда ей сказали, что отец ее не может воротиться домой, потому что болен.
Ричард Торнтон несколько раз заходил на Архиепископскую улицу в этот второй день болезни Элинор, но каждый раз оставался не более нескольких минут. Ему было много дела — так он сказал жене мясника, которая все не оставляла своего места в комнате больной и потихоньку уходила только к своему делу, пока Элинор спала.
Был двенадцатый час ночи, когда живописец пришел в последний раз. Элинор сделалось хуже к вечеру: с ней была лихорадка, она тревожилась. Она хотела встать, одеться и бежать к отцу. Если он был болен, как могли поступить с ней так жестоко и не пускать ее к нему?
Потом, вскочив вдруг на постели, она дико кричала, что ее обманывают и что отец ее умер.
Но помощь и утешение были под рукой. Ричард пришел не один. Он привел с собой пожилую женщину с седыми волосами, в поношенном черном платье.
Когда эта женщина явилась на пороге тускло освещенной спальной, Элинор Вэн вдруг приподнялась на постели и всплеснула руками с криком удивления и восторга:
— Синьора! — Воскликнула она. — Милая, добрая синьора!
Синьора сияла шляпку, подошла к постели, села на край тюфяка и, положив прелестную головку Элинор к себе на грудь, начала приглаживать ее спутанные золотистые волосы с невыразимой нежностью.

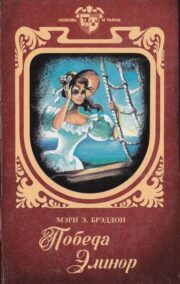
"Победа Элинор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Победа Элинор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Победа Элинор" друзьям в соцсетях.