— Если вы это думаете, Гортензия, — сказала она, — если вы думаете, что я в тягость милой синьоре, или Ричарду, я возьму всякое место, какое вы хотите, как бы ни было оно трудно. Я буду трудиться день и ночь скорее, чем быть им долее в тягость.
Элинор вспомнила, как мало получала она от своих немногих учениц. Да, Гортензия, без сомнения, права: она была в тягость этим добрым людям, которые взяли ее в дом в час отчаяния и несчастья.
— Я возьму это место, Гортензия! — закричала Элинор.
— Я назовусь чужим именем. Я сделаю все на свете скорее, чем употреблять во зло доброту моих друзей.
— Очень хорошо, — холодно отвечала мистрис Баннистер— Пожалуйста, не говори никаких геройских фраз. Это место очень хорошее — уверяю тебя, и многие девушки были бы рады воспользоваться таким случаем. Я напишу к моему другу, мистрис Дэррелль, и рекомендую тебя ей. Больше я ничего не могу сделать. Разумеется, я не могу ручаться за успех, но Эллен Дэррелль и я были большими друзьями несколько лет тому назад, и я знаю, что я имею на нее значительное влияние. Я напишу тебе о результате моей рекомендации.
Элинор вышла от сестры, выпив два-три глотка светлого хереса, который мистрис Баннистер заставила ее выпить. Вино имело такой кислый вкус, как будто виноград, из которого оно было сделано, никогда не видал солнца. Мисс Вэн была рада поставить рюмку и убежать от холодной пышности гостиной ее сестры.
Медленно и грустно возвращалась она домой. Она должна была оставить дорогих друзей, оставить бедные комнатки, в которых она была так счастлива, и вступить в холодный свет к знатным людям, в таком низком звании, что должна была даже отказаться от своего имени.
Но было бы трусостью и эгоизмом с ее стороны отказаться от этого места, потому что, без сомнения, жестокая мистрис Баннистер сказала правду: она была в тягость своим бедным друзьям.
Угрюмо думала Элинор об этом, но сквозь все мрачные мысли о настоящем проглядывал в черном будущем еще более мрачный призрак, призрак ее мщения, неопределенная и неверная тень, наполнявшая ее девические мечты с тех самых пор, как великое горе о смерти ее отца постигло се.
«Если я поеду в Гэзльуд, — думала она, — если я проведу мою жизнь у мистрис Дэррелль, как могу я надеяться найти убийцу моего отца?»
Глава XI. ОБЕЩАНИЕ РИЧАРДА ТОРНТОНА
Элинор Вэн казалась очень грустна, когда воротилась домой после своего свидания с мистрис Баннистер. Она жила только полтора года в этой смиренной местности, но в ее натуре было привязываться и к местам не только к особым, она очень полюбила Пиластры. Все там знали ее и любили. Красотой ее гордились достойные граждане Пиластров.
В этой атмосфере любви и восторг а девушка была очень счастлива. Она имела одну из тех натур, в которых лежит чудная способность приспосабливаться к обычаям и привычкам друг их. Она никогда не была не у места, она никогда никому не мешала. Она не была честолюбива. Ее веселый характер был центром постоянного спокойствия и счастья; только сильные удары горя и неприятностей могли расстроить ее. Она была очень счастлива с синьорой, и в этот день, осматривая маленькую гостиную, она с грустыо останавливала взор то на старом фортепьяно, то на полке с изорванными книгами, то на картине, которую она любила критиковать, и когда она вспоминала, как скоро она должна оставить все эти вещи, слезы струились по ее щекам и уныло стояла она на пороге своей новой жизни.
Воротившись из Бэйсуотера, она нашла знакомые комнаты пустыми: синьора ушла давать уроки, а Ричард работал в театре, где постоянно давались новые пьесы и писались новые декорации. Элинор могла одна сидеть в гостиной, она сняла шляпку и села на старомодный, обитый ситцем диван. Она запрятала голову в подушку и старалась думать.
Перспектива новой жизни, которая была бы восхитительна для многих девушек ее лет, была неприятна для Элинор. Она поехала бы на другой конец света с отцом, если бы он был жив, или с Ричардом, или с синьорой, которых она любила немножко менее чем его. Но разорвать все связи и вступить в свет одной, было невыразимо ужасно для этой любящей, впечатлительной натуры.
Если бы дело шло о ее собственных выгодах, если, пожертвовав своими будущими надеждами, она могла остаться с любимыми друзьями, она не колебалась бы ни минуты. Но мистрис Баннистер ясно сказала ей, что она в тягость этим великодушным людям, которые помогли ей в час ее бедствия. Эта бедная девушка принялась рассчитывать сама, сколько ее содержание стоит ее друзьям и многим ли она могла помогать им. Ах! Итог оказался против нее. Она зарабатывала еще очень очень мало, не потому, чтобы дарование ее не ценилось, но потому, что ученицы ее были бедны.
Нет, мистрис Баннистер — суровая и неприятная как истина — без сомнения, была права. Элинор была обязана оставить этих дорогих друзей и вступить в свет на одинокую битву для себя самой.
«Может статься, я буду в состоянии сделать для них что-нибудь, — думала Элинор, — и эта мысль была единственным проблеском света, освещавшим мрак ее горести. — Может статься, я накоплю столько денег, что куплю синьоре черное шелковое платье, а Ричарду — пенковую трубку. Я знаю, какая ему понравится: голова бульдога, с серебряным ошейником. Мы видели такую трубку в один вечер в лавке. Я должна оставить их, повторяла она про себя: я должна их оставить.»
Она укрепила себя в этой трудной обязанности к тому времени, как воротились ее друзья, и сказала им очень спокойно, что она видела мистрис Баннистер и согласилась принять ее покровительство.
— Я буду компаньонкой или учительницей музыки — право, не знаю хорошенько — у одной молодой девицы в загородном доме, называемом Гэзльуд, — сказала Элинор. — Не думайте, чтобы я оставляла вас без сожаления, милая синьора, но Гортензия говорит, что я должна это сделать.
— А вы не думайте, чтобы мне не было жаль расстаться с вами, Нелли, когда я скажу вам, что, по моему мнению, паша сестра права, — кротко отвечала синьора, целуя свою любимицу.
Может быть, Элинор несколько разочаровал этот ответ. Она не воображала, как часто Элиза Пичирилло боролась с эгоизмом своей любви, прежде чем покорилась безропотно этой разлуке.
Ричард Торнтон громко соболезновал.
— Что будет с нами без вас, Элинор? Кто будет приходить в театр и любоваться моими декорациями? Кто будет отрезать мне огромные ломти хлеба, когда я голоден? Кто будет играть мне Мендельсона, штопать мне чулки, пришивать к рубашкам пуговицы — глупое обыкновение, изобретенное невеждами, которые не знали пользы булавок? Кто будет меня бранить, когда я не успею выбриться, советовать вычистить ваксою мои сапоги? Кто станет порхать из комнаты в комнату в сопровождении грязного белого пуделя, подобно белокурой Эсмеральде с кудрявой козочкой? Что мы будем делать без вар, Элинор?
На сердце бедного Дика было очень грустно, когда он говорил таким образом с своей приемной сестрой. Братские ли были его чувства? Не примешивалась ли к чувствам его та гибельная мука, которая так свойственна человеческому роду, когда Ричард смотрел на прелестное личико девушки и помнил, как скоро оно исчезнет из этих бедных комнаток, оставив за собою унылую пустоту?
Синьора посмотрела на своего племянника и вздохнула. Да, для Элинор будет лучше оставить их, она никогда не влюбится в этого честного, чистосердечного, неопрятного живописца, сюртук которого был совершенным изображением ландшафта по множеству пятен, украшавших его.
— Мой бедный Дик влюбился бы в нее и разбил бы свое доброе, честное сердце, — думала Элиза Пичирилло. — Я очень рада, что она уезжает.
«Если бы я могла остаться в Лондоне, — думала Элинор, между тем, может быть, я имела бы возможность встретиться с этим человеком. Все мошенники и злодеи прячутся в Лондоне. Но в тихой деревеньке я буду похоронена заживо. Когда я переступлю за порог дома мистрис Дэррелль, я прощусь с надеждою встретиться с этим человеком».
От мистрис Баннистер очень скоро было получено письмо. Мистрис Дэррелль приняла рекомендацию своей приятельницы и была готова принять мисс Винсент. Этим именем вдова маклера назвала свою сестру.
«Ты будешь получать тридцать фунтов в год, — писала Гортензия Баннистер, и твоя обязанность будет очень легка. Не забывай, что в Гэзльуде ты будешь называться Винсент, и должна никогда не упоминать о твоем отце. Ты будешь жить между людьми, которые знали его хорошо и, следовательно, ты должна остерегаться. Я представила тебя осиротелой дочерью одного джентльмена, который умер в бедности, так что сказала истинную правду. Тебе не будут задавать никаких вопросов, так как для мистрис Дэррелль довольно моей рекомендации, она слишком хорошего происхождения и не может чувствовать пошлого любопытства к истории твоей прошлой жизни. Я посылаю тебе ящик с платьями и с другими принадлежностями туалета, которые пригодятся тебе. Я посылаю тебе также пять фунтов — на непредвидимые издержки. Гэзльуд за тридцать миль от Лондона и за семь от Уиндзора. Ты должна ехать по западной железной дороге и остановиться в Сло, где тебя будет ждать экипаж, но я еще напишу тебе об этом, мистрис Дэррелль была так добра, что согласилась дать тебе две недели отсрочки для твоих приготовлений. Тебя будут ждать в Гэзльуде 6 апреля.
Мне остается сделать еще одно замечание. Я знаю, что твой отец имел сумасбродные надежды относительно Удлэндского поместья. Пожалуйста, помни, что я никогда не имела подобной идеи. Я знаю Дэрреллей довольно хорошо и, уверена, что они своих прав не уступят, и я признаю эти права. Помни же, что я не имею ни желаний, ни ожиданий относительно завещания Мориса де-Креспиньи, но, с другой стороны, также совершенно справедливо, что в молодости он дал торжественное обещание, и если умрет холостым, оставить свое состояние моему отцу, или его наследникам.»
Элинор Вэн мало обратила внимания на этот окончательный параграф в письме ее сестры. Кому было нужно богатство Мориса де-Креспиньи? Какая была польза в нем теперь? Оно не могло возвратить жизнь ее отцу, оно не могло уничтожить эту тихую сцену смерти, при которой не присутствовал никто в парижской кофейной. Какое было дело, кто получит в наследство эту бесполезную и ничтожную дрянь?
Прошло две недели самым неудовлетворительным и лихорадочным образом. Ричард и синьора старались скрывать свое сожаление, расставаясь с веселой девушкой, которая внесла новый свет в их скучную жизнь. Элинор плакала украдкой. Много горьких слез капало на ее работу, когда она переделывала шелковые платья мистрис Баннистер, приспособляя их к своему девическому стану.
Наконец настал последний вечер, вечер 5 апреля, канун горестной разлуки и начало новой жизни.
Этот вечер пришелся на воскресенье.
Элинор и Ричард вышли погулять по тихим улицам в то время, когда колокола звонили к вечерни и огни тускло мерцали из окон церкви. Они выбрали самую уединенную улицу. Элинор была очень бледна, очень молчалива. Она сама пожелала этой вечерней прогулки и Ричард с изумлением наблюдал за нею. Лицо ее имело то выражение, которое он помнил на нем на Архиепископской улице, когда Ричард рассказывал ей историю смерти ее отца — неестественное суровое выражение, составлявшее странную противоположность с изменчивым и веселым выражением, обыкновенно отличавшим эту юную физиономию.
Несколько времени медленно ходили они по опустелым улицам. Колокола перестали звонить. Серые сумерки спускались на улице, и огни начали мелькать в окнах.
— Как вы молчаливы, Нелли, — сказал наконец Ричард.
— Зачем вы непременно желали, чтобы мы пошли гулять одни, моя милая? Я вообразил, что вы хотите сказать мне что-нибудь особенное.
— Я точно хочу поговорить с вами.
— О чем? — спросил Торнтон.
Задумчиво взглянул он на свою спутницу. Он мог только видеть ее профиль — этот чистый, почти классический профиль — потому что Элинор не повернулась к нему, когда говорила. Ее серые глаза прямо смотрели в пустое пространство, и губы ее были крепко сжаты.
— Вы любите меня — не правда ли, Ричард? — вдруг спросила она с внезапностью, которая испугала живописца.
Бедный Дик вспыхнул при этом страшном вопросе. Как могла Элинор быть так жестока, чтобы задавать ему подобные вопросы? Последние две недели он боролся сам с собой — Богу известно, как твердо и добросовестно — в геройском желании отогнать от себя роковую мысль, и теперь девушка, для которой он боролся с своим эгоизмом, дотронулась своей несведущей рукою до самой чувствительной струны.
Но мисс Вэн не сознавала сделанного ею вреда. Кокетство было неведомым искусством для этой семнадцати-летней девушки. Во всем, что относилось к этому женскому дарованию, она была такой же ребенок в семнадцать лет, как в то время, когда она опрокидывала краски Ричарда и делала грубые копии с его картин.

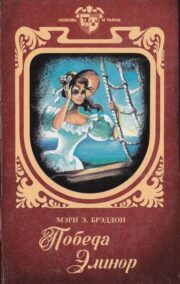
"Победа Элинор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Победа Элинор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Победа Элинор" друзьям в соцсетях.