— Ага! приятель, — подумал я, — ведь нечасто приходится тебе пировать в такой гостинице. Это, как я полагаю, расход выше твоих возможностей… Я тоже отправился в гостиницу и прямо в общую залу… Мистер Дэррелль сидел с маленьким клерком в изношенном костюме, за особенным столиком и попивал херес с сельтерскою водою. Очень серьезно и очень тихо художник что-то толковал своему собеседнику. Нетрудно было догадаться, что он старался уговорить изношенного клерка сделать какое-то дело, против которого возмущалось чувство клеркова благоразумия. Оба они взглянули, когда я вошел в общую залу, где они до того времени были только вдвоем. Ланцелот Дэррелль, узнав меня, раскраснелся как рак. Видно было, что он совсем не желал, чтобы кто-нибудь видел его в обществе лауфордовского клерка.
— Доброе утро, мистер Дэррелль, — сказал я, — вот я приехал сюда осмотреть замок, но оказалось, к моему несчастью, что сегодня не впускают посторонних посетителей и теперь я вынужден часа два протаскаться по такой мокроте… Ланцелот Дэррелль отвечал мне с той покровительственной благосклонностью, которая делает его таким милым для людей, считающих себя почему-то ниже его. Он почти уже оправился от своего замешательства и пробормотал что-то об нотариусе Лауфорде и о делах. Затем я потребовал бутылку эля — вот новое возражение против должности сыщика: она невольно вовлекает в пьянство. Между тем Дэррелль сидел на своем месте и как-то неловко и тревожно кусал себе ногти. Выпив бутылку эля, я ушел из гостиницы, оставив Дэррелля вдвоем с клерком, но далеко я не уходил. Сделав вид, что наружная часть замка, выходящая на эту улицу, чрезвычайно интересует меня, я принял такое положение, что один мой глаз был устремлен на величественные башни королевского замка, а другой не упускал из вида дверь, из которой Дэррелль должен был когда-нибудь показаться с клерком мистера Лауфорда.
Через полчаса времени я имел удовольствие видеть их появление и самым невинным образом встретился с ними носом к носу как раз на углу перпендикулярной улицы… Я был вполне вознагражден за все поднятые мною труды, потому что мне никогда еще не случалось видеть такое сильное выражение бешенства, досады, обманутой надежды, почти отчаяний, которые ясно выражались на лице Ланцелота Дэррелля, когда я увидел его, выходя с. противоположного угла. Он был бледен, как полотно, и как-то дико посмотрел на меня, как будто не узнал меня. Его неподвижный взор ясно показывал, что ум его был так поглощен душевной бурею, что он не мог уже обращать внимания на внешние предметы, но, казалось, что в своем сдержанном бешенстве он готов был броситься, как безумный, на все и на всех, кто стал бы ему поперек дороги.
— Но почему же, Ричард, почему же он был так взбешен? Что же это значит? — спросила Элинор.
Руки у нее дрожали, ноздри сильно раздувались от быстрого дыхания.
— Разве я жестоко ошибаюсь, мистрис Монктон, но только, по моему мнению, это значит, что Ланцелот Дэррелль вел переговоры с клерком нотариуса, писавшего духовное завещание Мориса де-Креспиньи, и что он выведал от него что-нибудь очень неблагоприятное…
— Но что ж такое?
— А только то, что духовная переделана и блистательный мистер Дэррелль не получит ни копейки из богатого наследства после своего родственника.
В это время раздался второй звонок к обеду, и Элинор бросилась в свою уборную, чтобы как-нибудь переменить свой туалет и появилась в гостиной взволнованная, смущенная, десять минут спустя после того, как аккуратнейший буфетчик объявил во всеуслышание, что кушать подано.
Глава XXXVI. ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ
На другой день после прогулки Ричарда но Уиндзору, Ланцелот Дэррелль приехал в Толльдэль, и Элинор с помощью полученных сведений легко уже могла заметить сильную перемену в его обращении. Она нарочно провела целый час в гостиной до обеда, чтобы увидеть эту перемену и самой убедиться в справедливости замечания Ричарда Торнтона. Но эта перемена была до того поразительна, что даже Лора заметила, что с ее женихом случилось что-нибудь необыкновенное, Лора, которая век свой никогда не замечала никаких оттенков чувства, если только они не выражались внешними признаками, то есть словом или движением, но, заметив эго, она чуть было с ума не свела Ланцелота своими ребяческими вопросами и изъявлениями сострадания.
Что его так встревожило? Почему он бледнее обыкновенного? Почему он иногда вздыхает? Почему он так странно смеется? О! нет, он не всегда таков бывает. Никак нельзя сказать, чтоб он всегда был одинаков. Верно, у него голова болит или он, засиделся поздно ночью? А то не выпил ли он этого гадкого вина, которое ему всегда бывает вредно? Неужели он был таким гадким, жестоким обманщиком, вероломным чудовищем, что отправился куда-нибудь в гости, не сказав о том своей бедной Лоре, и, верно, пил там шампанское, ухаживал за девицами, танцевал? А может быть, он слишком много работал над своею картиной.
Вот подобными вопросами молодая девушка мучила целое утро своего жениха, мучила до тех пор, пока он взбесился на нее и приказал ей молчать, говоря, что от ее болтовни у него чуть не лопнет голова.
— Ланцелот Дэррелль, как видно, очень мало стеснялся в выражении своих чувств, и, усевшись пред камином на покойном кресле, облокотился обеими руками на свои колени и устремил свои прекрасные черные глаза на огонь. Желая рассеять свои тяжелые мысли, он по временам схватывал кочергу и с яростью колотил ею уголья, как будто на угольях хотелось ему сорвать свою злобу. Каждый другой человек стал бы опасаться, чтобы посторонние зрители не вывели каких-нибудь заключений из его поступков, но вся жизнь Ланцелота была основана на одном принципе: крайнее презрение ко всему живущему в мире, кроме самого себя, и потому он ничуть не опасался наблюдательности людей, которых считал ниже себя.
Лора Мэсон села на скамеечке у ног его и, вышивая туфли, — это была уже третья пара, которую она начинала для своего будущего супруга и повелителя — сама думала, что он никогда так не был похож на корсара, как в настоящую минуту, и в то же время выводила заключение, что, должно быть, Медора не совсем веселую проводила жизнь. Наверное, и у Конрада была такая же привычка: чуть что не по нем — так и давай колотить уголья и с яростью мешать огонь так, чтоб камин ярко пылал.
Ланцелот был приглашен к обеду в Толльдэлль на 16 февраля, приглашал же его мистер Монктон, говоря, что ему надо переговорить с ним насчет некоторых дел относительно приданого Лоры.
— Теперь уже пора, Дэррелль, откровенно объясниться нам насчет ее состояния, — сказал Монктон, — и потому я прошу вас пожаловать ко мне в кабинет после обеда, часа на два, не больше, чтобы потолковать о делах, если только вы ничего не имеете против этого.
Разумеется, Дэррелль ничего не имел против этого, но только именно в этот день он имел престранное обращение в отношении бедной Лоры, которая не знала, что и думать о такой перемене.
— Вы полагаете, что это очень странно, почему я так пе люблю все эти церемонии с переговорами и договорами? Не правда ли, Лора, что это приятные слова? Ваш опекун удостоил сказать мне, что на первые года нашей брачной жизни положит нам хороший годовой оклад. Вы думаете, может быть, что мне должно благодушно принимать подобного рода вещи и спокойным духом вступить на поприще благородной нищеты, в зависимости от карандаша, или от жены насчет того, что мне есть или во что одеться?.. Нет, Лора, этому не бывать! — воскликнул он запальчиво, — я не покорюсь этому благодушно, я не вынесу этого спокойно. Мысль о предстоящем мне положении бесит меня против самого себя, против вас, против всех и против всего в мире.
Все это Ланцелот говорил своей невесте, при Ричарде и Элинор. Ричард сидел у окна и на чистых листках разных писем рисовал карандашом разные эскизы, а мистрис Монктон, стоя у другого окна, смотрела на деревья, лишенные своего зеленого украшения, на черные цветники без цветов, на дождевые капли, висевшие на елях и соснах.
Дэррелль очень хорошо знал, что его слышат посторонние, но и не желал, чтоб это было иначе: никакой пе имел он охоты сохранять в тайне свою досаду. Вся его эгоистическая натура высказывалась в этом. Он представлялся жертвою и выказывал презрение к выгодам, которые получал от женитьбы на своей доверчивой невесте — словом, он заранее провозглашал себя оскорбленным и несчастным, почему у его будущей жены богатое приданое, заставляя ее извиняться за богатство, которое она готова была передать ему.
— Как будто брать мои деньги значит быть нищим? — воскликнула мисс Мэсон с глубокой нежностью. — Вы так говорите, Ланцелот, как будто я жалею для вас этих гадких денег. Право, я даже не знаю, сколько их у меня. Может быть, пятьдесят фунтов в год — именно столько надо было платить за мои платья и наряды с тех пор, как мне минуло пятнадцать лет — а может быть, и пятьдесят тысяч. Я и не желаю знать, сколько у меня всего. Если же у меня в самом деле пятьдесят тысяч годового дохода, то милости просим, голубчик мой Ланцелот, берите, сколько хотите.
От этих слов «голубчик Ланцелот» его подернуло как-то неприятно.
— Ах! Лора, вы все лепечете, как малый ребенок, — сказал он с пренебрежением, — а я так полагаю, что назначение прекрасного годового оклада, обещанное мистером Монктоном, будет достигать не более двух или трехсот фунтов в год, именно столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду, увеличивая доход трудами рук своих, как какой-нибудь ремесленник. Одному Богу известно, сколько он мне проповедовал насчет необходимости труда. Послушаешь его, так невольно подумаешь, что свободный артист то же, что какой-нибудь каменщик или плотник.
При этих словах Элинор вдруг отвернулась от окна: нельзя же было безнаказанно обвинять ее мужа при ней.
— Нет никакого сомнения, что мистер Монктон всегда прав, что бы он ни говорил, — воскликнула она, гордо подняв голову, с вызывающим выражением против голоса, который осмелился бы усомниться в достоинствах ее мужа.
— Без всякого сомнения, мистрис Монктон, но нельзя и того отрицать, что не все то приятно, что может быть справедливо. Я никак не могу согласиться, что призвание артиста есть торговля и что когда Грации вдохновят мне счастливую мысль, так я должен скорее работать, как невольник, до тех пор, пока изложу ее на холст и отошлю на рынок продавать.
— А иные полагают, что Грации покровительствуют неутомимому труду, — сказал Ричард Торнтон спокойно и не поднимая глаз от своего быстрого карандаша, — и что счастливейшие мысли приходят скорее художнику, когда он сидит с кистью в руке, чем когда он лежит на диване с французским романом в руках, а я знавал на своем веку многих артистов, предпочитавших такое положение в ожидании вдохновения. Что касается меня, то я верую в то вдохновение, которое достигается энергичным, неутомимым трудом.
— Конечно, — отвечал Ланцелот с видом ленивого равнодушия, ясно выражавшего, как ему скучно толковать об искусстве с каким-нибудь помощником декоратора, — но позвольте сказать, что вы находите этот ответ — в вашей сфере. Много приходится вам перепачкать холста прежде, чем вы доберетесь до сцены превращения — не так ли?
— Рубенс тоже много перепачкал холста, — сказал Ричард, — да и Рафаэль поработал также порядочно в свою очередь, если судить по множеству картона и других безделиц.
— О! во все времена бывают гиганты, но я совсем не увлекаюсь желанием соперничать с подобными мастерами. Да и то сказать, я совсем не понимаю, зачем непременно нужно, чтобы люди прошли целые версты картинных галлерей прежде чем решились произнести мнение о художнике. Я считал бы себя совершенно счастливым, если бы мог оставить потомству полдюжины картин в роде «Гугенота» Миллэ.
— А я так совершенно уверена, что вы могли бы целыми дюжинами рисовать такие же хорошие картины, — воскликнула Лора, — ну что за особенная мудрость в этой картине «Гугенот»? Женщина перевязывает шарфом своего любезного и тут же множество зеленых листьев — и больше ничего. Конечно, это очень мило и, смотря на эту картину, так многое чувствуешь за нее, бедняжку, и так боишься, что его убьют жестокие католики и что она умрет с тоски, с разбитым сердцем. Но и вам, Ланцелот, стоит только захотеть, так и вы кучами нарисуете таких картинок.
Молодой человек не удостоил обратить внимания на критический талант своей прелестной невесты, но погрузился в угрюмое молчание и снова принялся за дикое утешение, доставляемое ему кочергою.
— Послушайте же, Ланцелот, — принялась и мисс Мэсон за старое, — вам не за чем горевать, почему у меня есть богатство, тогда как вы бедны. Ведь останется же наследство после Мориса де-Креспиньи, это было бы и стыдно и грешно, если б он оставил свое имущество кому другому, а не вам. Вот и мой опекун недавно еще говорил, что, наверное, все вам достанется.

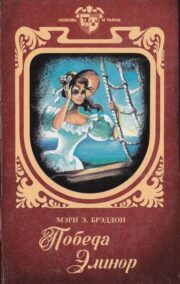
"Победа Элинор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Победа Элинор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Победа Элинор" друзьям в соцсетях.