Каждый смотрел на своего соседа, как на предполагаемого наследника чего-нибудь такого, что могло быть достойно желаний, а потому видел в нем личного врага.
Улыбающиеся родственники внушали подозрение, что знают содержание духовной и втайне наслаждаются уверенностью увидеть свои имена в ней упомянутыми приятным для них образом. Нахмуренные лица заставляли смотреть на них мрачно, как на предполагаемых интриганов, искавших влияния на покойного. Родственников, с сомнением на лице, опасались, как компаньонов и низких угодников, которые, вероятно, заискивали перед мистером де-Креспиньи хитрою лестью. С выражением же уверенности возбуждали опасение, как люди, имеющие, быть может, какое-нибудь право на состояние, и молча наслаждавшиеся в душе созерцанием своего счастья. Каждый из приезжих родственников ненавидел друт друга смертельной, мстительной ненавистью; но все разделяли общую, гораздо сильнейшую ненависть к четырем избранным счастливцам этой игры в богатое наследство: к двум старым девицам, мистрис Дэррелль и ее сыну. Было почти верно, что один из четырех унаследует Удлэндс и большую часть состояния покойного, если только вследствие одной из тех прихотей, так часто встречаемых в болезненных, причудливых людях, он не оставил своего богатства какому-нибудь дальнему родственнику, слишком гордому, чтобы ухаживать за ним и, сверх того, не имевшим на то случая. Да, три племянницы и Ланцелот имели первую возможность на успех в этом состязании, и приезжие спокойно обсуждали между собою возможный успех этих четырех счастливцев. И если они отчаянно ненавидели друг друга за незначительные выгоды, могущие выпасть на их долю, что должны они были испытывать в отношении тех четырех лиц, которым назначались главные ставки?
После странной сцены в ночь смерти мистера де-Креспиньи. Ланцелот Дэррелль в первый раз встретился с Монктоном. В этот промежуток времени, молодой человек приезжал в Толльдэльский Приорат, но не был принят ни нотариусом, ни его питомицей.
Может быть, из всех собравшихся в этой комнате, еще гак недавно занимаемой покойным, никто не был более взволнован, как Монктон, хотя в душе его не было и тени жадного корыстолюбия. Монктон приехал в Удлэндс с надеждою увидеть жену свою оправданной. В течение недели, которая протекла после смерти старика, он постоянно обдумывал обвинение Элинор, но чем больше он старался вникнуть в это пылкое, энергичное обвинение, тем больше терялся в догадках и предположениях.
Не следует забывать, что характер Монктона стал ревнив и подозрителен вследствие жестокого разочарования, отравившего его молодость и ожесточившего его врожденное великодушие. Он был проникнут убеждением, что Элинор никогда его не любила, а любила Ланцелота Дэррелля. Эта мысль была духом-мучителем, лукавым демоном, овладевшим его душою после короткого медового месяца на северном берегу моря. Злой дух вполне покорил его своей власти и изгнать его было нелегко каким бы то ни было заклинанием. Разом он не мог быть удален. Запальчивый донос, гневное обвинение, которое сорвалось с губ Элинор со всем увлечением пылкого негодования, могло быть взрывом бешеной ревности женщины и иметь основанием любовь. Элинор, вероятно, любила этого молодого человека и негодовала на него за предполагаемую женитьбу на Лоре. Если бы одно желание отомстить за смерть отца побуждало ее, то, верно, пылкая молодая женщина высказалась бы прежде. Таким образом рассуждал Джильберт Монктон. Он не знал, как Элинор жаждала возможности высказаться и как была удержана только светскою мудростью Ричарда Торнтона. Как мог он знать, каким ужасным испытаниям подвергалось ее терпение! Какую тяжкую борьбу она вынесла между увлечением страсти и холодными расчетами благоразумия! Он ничего не знал, исключая того, что нечто — какая-то тайна — какая-то всепокоряющая страсть поглощала ее душу и удаляла от мужа. Он стоял поодаль в кабинете покойника, пока мистер Лэмб, пожилой писарь, с седыми волосами, с порывистыми движениями и опущенным взором, раскладывал бумаги на маленьком столе, стоявшем возле камина, и прочищал горло, собираясь приступить к чтению духовной.
Страшная тишина царствовала в комнате, казалось, будто естественное дыхание каждого было прервано на эту минуту, и тогда писарь начал читать тихо, медленно и запинаясь, обыкновенную формулу:
«Я Морис де-Креспиньи, находясь в настоящее время» и т. д., и т. д.
Духовная была довольно длинна и терпение главных ожидавших лиц подверглось тяжелому испытанию. В начале завещания назначалось множество незначительных вещиц, как: траурные кольца, табакерки, книги, старинная серебряная посуда, некоторые вещи из драгоценного фарфора и всякого рода небольшие подарки дальним родственникам и друзьям, потерянным из вида во время уединенной жизни старика под суровым попечительством его двух стражей. Наконец, по назначении небольших пожизненных пенсий старым слугам, добрались до главного параграфа.
Каждой из трех сестер, Саре и Лавинии де-Креспиньи и Эллен Дэррелль, завещатель отказывал сумму денег, соответствующую годовому доходу двухсот фунтов стерлингов. Все остальное его имущество, движимое и недвижимое, завещано было Ланцелоту Дэрреллю безусловно и без всякого изъятия.
Кровь прилила к лицу вдовы и тотчас уступила место смертельной бледности. Она протянула руку сыну, стоявшему возле ее стула, и пожала его влажную руку.
— Слава Богу! — сказала она тихим голосом, — наконец и тебе выпало счастье. Завтра я могла бы спокойно закрыть глаза.
Две старые девицы, бледные от гнева, устремляли язвительные, яростные взгляды на племянника, могли только на него смотреть, но сделать они не могли ничего. Он выиграл, а они проиграли — вот и все. В ушах у них раздавался странный шум и пол, покрытый ковром, как будто шатался подобно палубе корабля во время шквала. Удар был слишком силен. От первого его действия произошла какая-то физическая бесчувственность, от которой и мозг был как будто поражен отуплением.
Я не предполагаю, чтобы какая-нибудь из этих престарелых девиц, носивших худые башмаки и круто завитые маленькие локоны неестественного коричневого цвета, могли бы каким-либо способом истратить на собственные потребности более ста фунтов в год; ни одна из них не предавалась сладостному чувству делать добро. Они не были ни великодушны, ни честолюбивы. Они не имели ни малейшей склонности тратить деньги как на себя, так и на других: не менее того они домогались этого богатства с такою же жадностью, какую могла бы испытывать душа гордая, честолюбивая, стремившаяся к золоту, как к средству проложить себе путь к славе. Они любили деньги для денег, без всякого отношения к возвышенному или неблагородному их употреблению. Они были бы очень счастливы, владея богатством их покойного родственника, и достигли бы могилы, не истратив на себя и тех двухсот фунтов, которые получали по жестокому духовному завещанию. Они копили бы доходы, присчитывая проценты к капиталу, улучшали бы земли, возвысили арендную плату и были бы безжалостны и притеснительны с подвластными; считали бы свои барыши и рассчитывали бы вместе, на сколько возросло их богатство. Но они отдавали бы чинить изношенную обувь тому же плохому башмачнику, который делал это прежде, при жизни их дяди, и были бы также скупы на каждый пенс торгуясь с парикмахером, завивавшим их коричневые, накладные локоны.
Ланцелот Дэррелль продолжал стоять у стула матери, хотя чтение духовной давно уже было закончено и писарь уже складывал листы, на которых она была написана. Никогда ни одно живое существо не высказывало менее радости, как этот молодой человек при получении такого большого богатства.
Монктон подошел к маленькому столу, у которого сидел писарь.
— Могу ли я взглянуть на духовную, мистер Лэмб, — спросил он.
Писарь посмотрел на него с удивлением.
— Вы желаете видеть духовную? — сказал он после минутной нерешимости.
— Да, разве этого нельзя? Разве вы находите к тому какое-нибудь препятствие? Оно будет отослано в суд, я полагаю, где каждый может его видеть за шиллинг.
Писарь передал Монктону документ с маленьким сухим смехом.
— Вот оно, мистер Монктон, — сказал он. — Вы, вероятно, узнаете вашу собственную подпись: она тут вместе с моею.
Да, подпись была тут. Весьма нелегко человеку самому искусному, если только он не ученый специалист, разрешить вопрос о действительности своей собственной подписи. Джильберт Монктон взглянул на знакомый почерк и тщетно искал в нем какого-нибудь недостатка. Если это была подделка, то очень искусная. Нотариус хорошо запомнил число, когда подписывался свидетелем под завещанием и на какой бумаге оно было написано: число и бумага вполне соответствовали его воспоминаниям.
Все завещание было написано рукою самого писаря, на грех листах бумаги небольшого формата и подписи завещателя, а подписи свидетелей стояли в конце каждого листа. Каждая из трех различных подписей разнилась между собою в какой-нибудь безделице. Несмотря на свою незначительность, это обстоятельство, однако ж, имело большое влияние на Джильберта Монктона. «Если бы завещание было подделкою Ланцелота Дэррелля, то подписи должны бы быть точными снимками одна с другой», — подумал нотариус. В эту ошибку всегда впадают все подделыватели. Они забывают, что редко один человек подпишется совершенно одинаково два раза. Они добудут один автограф и снимают с него точные снимки.
Итак, что ему было думать? Если это была подлинная духовная, то обвинение Элинор должно быть ложно. Мог ли он это подумать? Мог ли он представить себе жену свою ревнивой и мстительной женщиной, способной на клевету из жажды мести за неверность человека, которого она любила? Только подумать об этом, было уже безвыходным страданием. Но как было Джильберту Монктону думать другое, когда духовная оказывалась подлинною. Все основывалось на этом, а не было ни одной улики против Ланцелота Дэррелля. Ключница мистрис Джепкот утверждала положительно, что никто не входил в комнату покойного и не касался его ключей, лежавших на столе, возле кровати. Если можно было полагаться на слова этой женщины, то одного этого было достаточно, чтоб опровергнуть рассказ Элинор. Но это еще не все: само завещание было во всех его пунктах совершенно противоположное тому, которое походило бы на фальшивое. В нем были поименованы старые друзья покойного, которых он сам не видел в последние двадцать лет, имена которых даже не могли быть известны Ланцелоту Дэрреллю. Это было завещание человека, душа которого вполне жила в прошлом. Так отказана была золотая табакерка «моему другу, Питеру Сиджеуику, бывшему рулевым, когда я был матросом на борту „Магдалина“ в Генли на Темзе, пятьдесят семь лет тому назад», а там ониксовая булавка оставлена была «моему веселому товарищу Генри Лоренсу, который в день моего рождения обедал со мною в Бифстэкском клубе, вместе с Джорджем Вэном и Ричардом Бринсли Шериданом». Пятьдесят лет назад завещание было полно личных воспоминаний. Возможно ли было предположить, чтоб Ланцелот мог его подделать? Он не имел в руках подлинного акта прежде чем пришел подменить его фальшивым после смерти дяди. «Стало быть, основываясь на собственных словах Элинор, — рассуждал Монктон, — подделка должна была произойти, пока еще молодой человек находился в совершенном неведении относительно содержания подлинной духовной. Этот факт, — заключил мысленно нотариус, — положительное доказательство против моей жены, Ланцелот не мог бы подделать такого завещания, как это. Итак, оно было подлинное, а обвинене Элинор только внезапным взрывом бешеной ревности, которая делала ее почти равнодушною к последствиям». Монктон долго рассматривал подписи и вслед за тем, устремив на писаря внимательный взор, он сказал тихим голосом:
— Духовная написана вашею рукою, мистер Лэмб?
— Моею, сэр.
— Готовы ли вы дать присягу в подлинности этого акта, в том, что он тот же самый, который вы тогда написали и засвидетельствовали своею подписью?
— Без малейшего сомнения, — отвечал писарь с удивленным видом.
— Не имете ли вы повода сомневаться в подлинности акта?
— Нет, сэр, никакого. Разве вы имеете какое-нибудь подозрение, мистер Монктон? — прибавил он после минутной нерешимости.
Нотариус глубоко вздохнул.
— Нет, — сказал он, возвращая писарю бумагу, — я полагаю, что это подлинное духовное завещание.
В эту самую минуту в обществе вдруг произошло движение и Джильберт Монктон повернул в ту сторону голову, чтоб узнать в чем дело.
Мистрис Джепкот, ключница, что-то говорила и к словам ее все прислушивались с напряженным вниманием. Причина всеобщего любопытства заключалась в том, что она держала в руках какую-то бумагу. Глаза всех обращались на нее. Эта бумага могла быть припиской, которой уничтожалась сама духовная и в которой заключалось совершенно другое назначение этому богатству.
Слабая розовая тень показалась на щеках двух сестер-девиц, а Ланцелот Дэррелль побледнел как смерть, однако это была не приписка, а только письмо Мориса де-Креспиньи к его трем племянницам.

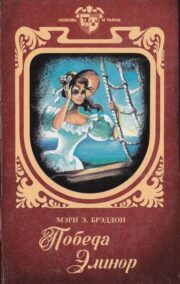
"Победа Элинор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Победа Элинор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Победа Элинор" друзьям в соцсетях.