– Дай мне немного подумать. Я завтра поспрашиваю.
Опускаясь в одно из потертых кожаных кресел возле камина, Себастьян обратил внимание, что кто-то поднял газеты, обычно валявшиеся на полу. Он окинул взглядом недавно вытертую от пыли каминную полку, свежие свечи в подсвечниках.
– Как твоя пациентка?
– Можете спросить меня лично, – произнесла Александри Соваж, показываясь в дверях.
Она выглядела почти такой же, какой он запомнил ее три года назад: то же буйное облако волос цвета заката, те же неожиданно темные карие глаза. Но вдали от жаркого солнца Испании ее кожа стала светлее, а сама она похудела, и резче выступившие скулы придавали ей обманчиво хрупкий вид.
– Господи Боже, зачем же вы встали? – воскликнул Гибсон, направляя нетвердые шаги раненой к ближайшему креслу.
На ней было все то же поношенное платье, что и в ночь нападения, и, судя по всему, она только что сумела одеться без посторонней помощи.
– Я услышала ваш разговор, – ответила она, со слабым, поспешно подавленным вздохом усаживаясь напротив Себастьяна.
Напряженные складки вокруг рта подсказывали, как нелегко ей было подняться.
– Не похоже, чтобы вам можно было покидать постель.
– Ей и нельзя, – подтвердил Гибсон.
Александри встретилась глазами с Себастьяном. В ее взгляде он уловил тлеющую враждебность и что-то вроде настороженности загнанной в угол лисицы.
– Что вы можете рассказать о той ночи, когда убили Дамиона Пельтана?
Француженка приложила ладонь ко лбу, словно даже попытка собраться с мыслями вызывала у нее новый приступ боли.
– Боюсь, я не так много помню.
– Можете назвать имя человека, сопровождавшего вас в «Герб Гиффорда»?
Опустив руку, она недоуменно нахмурилась:
– Какого человека? О чем вы? Я ходила туда одна, точно это знаю.
Друзья переглянулись.
– По утверждению некоего Митта Пебблза, женщина под вуалью и неизвестный мужчина спрашивали Пельтана около девяти вечера в день его смерти. Доктор поговорил с ними на улице, затем захватил пальто и ушел.
– Мне ничего не известно об этих людях, – покачала головой Александри. – Дамион не упоминал о них. Когда я подошла к гостинице, он один стоял на тротуаре и смотрел на звезды. Я спросила, чем это он занимается – той ночью было ужасно холодно. А он ответил, что просто… размышляет.
Себастьян пытливо всмотрелся в бледное, сдержанное лицо. Но если француженка и лгала, то ничем не обнаруживала этого.
– А дальше?
– Я попросила его сходить со мной к больной дочери Клер Бизетт. Дамион поднялся в номер за пальто, затем мы остановили фиакр. Мы предупредили извозчика, куда направляемся, но возле Тауэра он отказался углубляться в трущобы и высадил нас, так что пришлось проделать оставшийся путь до «Двора висельника» пешком. А потом… – она пожала плечами. – Я знаю, что мы осматривали Сесиль, но почти не помню этого. А дальше и вовсе ничего.
Она удерживала взгляд Себастьяна, словно бросая вызов, словно провоцируя не верить ей, и он подумал: «Почему? Зачем бы ей утаивать сведения, могущие вывести на тех, кто пытался ее убить?»
– Я слышала ваш разговор, – повторила Александри. – Насчет вашей жены.
– И что насчет моей жены?
– Существует способ повернуть младенца в утробе, который состоит в надавливании руками на живот, чтобы извне воздействовать на плод. Но это необходимо сделать в ближайшее время. Если промедлить, дело значительно осложнится.
– Звучит довольно опасно.
– Нет, если знать, что делаешь.
– Такое возможно? – покосился Себастьян на Гибсона.
Тот пожал плечами.
– Я слышал рассказы о подобной манипуляции. Но за их правдивость ручаться не берусь. Мне не доводилось говорить ни с кем, кто бы сам проделывал такое.
– Я проделывала, – подалась вперед Александри Соваж. – Это не всегда срабатывает. Но вы должны позволить мне хотя бы попытаться. Если ребенок не повернется до наступления срока… – ее голос прервался, и в душе Себастьяна вновь разверзлась зияющая бездна страха.
– Нет, – отрезал он.
Она откинулась в кресле, сжимая потертые кожаные подлокотники.
– Что вы себе вообразили? Будто я намеренно наврежу невинному младенцу и женщине, которой ни разу в жизни не видела? Просто чтобы свести с вами счеты?
– Именно.
С побледневшим лицом и дрожащими от усилия руками француженка поднялась на ноги.
– Ваш друг – глупец, – бросила она Гибсону и вышла из комнаты, сопровождаемая его изумленным взглядом.
– Ты не говорил мне, что ей стало лучше, – вставил Себастьян.
– Ей не лучше. Жар спал, но я не шутил, когда сказал, что ей нельзя вставать с постели. – Гибсон перевел взгляд обратно на лицо друга. – Не желаешь объяснить, что, черт подери, все это значит?
– То есть Александри ничего тебе не сообщила?
– Нет.
Себастьян допил вино и поднялся налить себе еще стакан.
– Помнишь, я говорил, что встречал эту женщину раньше, в Португалии?
– Помню.
– Я выполнял поручение полковника Синклера Олифанта, когда меня захватил в плен отряд французских кавалеристов. Она была с ними. Точнее, с любовником, неким лейтенантом Тиссо. При побеге я убил его.
Это была не вся история – далеко не вся. Но к тому времени, когда она произошла, искалеченный Гибсон уже вернулся в Лондон, и Себастьян предпочел не посвящать друга в ужасные подробности.
– Думаешь, она затаила на тебя злобу?
Себастьян оглянулся. Ветер швырял в окно снег и словно бы доносил слабый шепот давно минувшего прошлого.
– А ты как считаешь?
Гибсон направился подбросить в огонь угля, а затем так и остался стоять у камина, опираясь рукой об полку и всматриваясь в языки пламени.
Через некоторое время Себастьян снова заговорил:
– Я тут кое-что узнал, может, существенное, а может, и нет. Отец Дамиона Пельтана был одним из врачей, выполнявших вскрытие тела маленького дофина, когда тот умер в тюрьме Тампль. И лечил мальчика перед самой кончиной.
– Ты серьезно? – повернувшись, уставился на друга Гибсон.
– Граф Прованский лично подтвердил данный факт.
– Мне это не нравится.
– Мне тоже. Особенно если учесть, что Пельтана убили в годовщину казни Людовика XVI.
Гибсон оттолкнулся от камина.
– Много ли тебе известно о смерти последнего дофина?
– Сомневаюсь, что хоть кому-то многое известно о тех временах. Но есть один французский аристократ, близкий к графу Прованскому, – Амброз Лашапель. Мне кажется, он куда осведомленнее, нежели делает вид. По самому широкому кругу вопросов.
– Думаешь, тебе удастся его разговорить?
Допив вино, Себастьян отставил в сторону стакан.
– Не знаю. Однако намерен попытаться.
ГЛАВА 26
После того как Девлин уехал, Пол Гибсон направился в дальнюю комнату и остановился в дверях.
Александри Соваж, все еще одетая, лежала поверх одеяла, откинув голову и закрыв глаза.
По положению ее хрупкого тела Пол видел, как дорого ей обошлась попытка подняться даже на несколько коротких минут.
– Это было неразумно, – заметил он.
Повернув голову, Александри посмотрела на него.
– Я уже иду на поправку.
– Если будете и дальше выкидывать такие фортели, до поправки не дойдете.
Тень улыбки коснулась ее губ. У нее был крупный, щедрый рот с мягкими изгибами, пробуждающими в мужчине желание провести по ним пальцем.
– Ваш друг не рассказывал вам прежде? О Португалии, я имею в виду?
– Нет.
Александри сглотнула, дернув тонким горлом.
– И ваше отношение ко мне не изменилось, после того как вы узнали, что у меня был любовник?
– С какой стати? Я тоже имел любовниц. – Правда, у него никогда не было жены, а с тех пор как он потерял ногу, с женщинами вообще не складывалось, но Гибсон не видел смысла сейчас об этом распространяться.
– Это разные вещи.
– Не понимаю, в чем разница.
– Все вы понимаете. Наше общество ожидает – нет, требует – абсолютно разного поведения от мужчин и от женщин.
– Что с вами случилось после гибели вашего возлюбленного?
На мгновение Гибсону показалось, что она замкнулась и не собирается отвечать, и если бы можно было вернуть свои слова обратно, он бы вернул. Слишком личным получился этот вопрос, слишком явно выдавал его интерес к Александри, а по страдающему выражению ее глаз он уже догадался, насколько безрадостными выдались для нее те времена.
– Я повстречала английского капитана – Майлза Соважа. Он… как вы, англичане, говорите? Ах, да, вспомнила: он сделал из меня честную женщину. Любопытное выражение, правда? «Честная женщина» – нечто, совершенно отличное от «честного мужчины» и не имеющее никакого отношения к правдивости или ее отсутствию. Да уж, женская честь разительно отличается от мужской. Когда речь заходит о женщинах, то все наши вероятные достоинства – порядочность, доброе имя, даже добродетель как таковая – сводятся лишь к тому, кого мы пускаем к себе между ног.
Когда Гибсон промолчал, она кривовато усмехнулась:
– Я шокировала вас.
Он покачал головой.
– Это не так легко сделать, как вам могло показаться. Но ведь вы именно этого и хотели? Шокировать меня?
Александри склонила голову набок, не сводя глаз с его лица. И он понял, что угадал. Но оказался не готов к ее следующему выпаду.
– Интересно, а ваш добрый друг виконт Девлин знает о вашем пристрастии к опиуму?
Гибсон стремительно втянул в себя воздух.
– Для него не секрет, что я время от времени принимаю лауданум. Он был со мной, когда отрезали то, что осталось от моей ноги – держал меня, пока хирург орудовал пилой.
– Как давно это случилось?
– Года четыре назад.
По опыту Гибсона, четверо из пяти мужчин, потерявших руку или ногу – или кисть, или стопу, – страдали от периодических болей в отсутствующих конечностях. То обстоятельство, что беспокоящей части тела больше нет, не делало боль менее реальной или менее мучительной. Иногда она проявлялась сильной выкручивающей судорогой; в других случаях была такой острой и колющей, как будто в давно исчезнувшую плоть вонзался нож. Боль могла держаться долго, а затем внезапно утихнуть – только для того, чтобы без предупреждения вернуться вновь через пару минут или дней. У большинства калек приступы с течением времени становились реже, пока не исчезали совсем, как правило, через несколько месяцев.
Но у некоторых боль так не проходила. Гибсон знал о людях, которые покончили с собой, лишь бы избавиться от подобных мук.
– Лауданум позволяет мне сосредоточиться на… другом.
– О да. Но с каждым годом доза все увеличивается и увеличивается, верно? – Александри помолчала, затем мягко сказала: – Вы же понимаете, чем это закончится.
– Я в состоянии управлять ситуацией.
– Как? Бродя по злачным местам Лондона, когда желание забыться в маковом дурмане угрожает стать непреодолимым?
– Откуда вы… – Гибсон осекся.
– Откуда я узнала, почему вы оказались в округе Святой Екатерины той ночью, когда наткнулись на меня? Назовем это удачной догадкой. Откуда я узнала, что вы принимали лауданум прямо сегодня? Здесь довольно темно, однако ваши зрачки не больше булавочной головки.
– Я в состоянии управлять ситуацией, – повторил он.
– Если вы действительно верите в это, вы глупец.
Гибсон ощутил пятна горячей краски на своих щеках, но не мог определить, от злости это или от стыда.
– Оставляю вас отдыхать, – тщательно выпрямив спину, произнес он и поковылял из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь.
В течение всего вечера его неоднократно подмывало возобновить их спор. В передней части дома находились две небольшие смежные комнаты, обе с видом на улицу. Пациентке была отведена дальняя, и, судя по пробивающемуся из-под двери свету и редкому покашливанию, Александри еще не спала. Но Гибсон воздерживался от искушения, во-первых, подозревая, что проиграет любой спор на эту тему, а во-вторых, понимая, что раненой в ее состоянии совсем не полезна жаркая дискуссия с обманывающим себя курильщиком опиума.
Он стоял в темной комнате, глядя на заснеженную улицу сквозь покрытое изморозью окно. Редкие хлопья еще слетали на землю, но снегопад, похоже, закончился, по щиколотку засыпав мостовую мягким белым пухом. Небо было темным и беззвездным; луна пряталась за нависшими над городом густыми облаками; крыши древних каменных домов на Тауэр-Хилл укутал толстый слой снега, а капавшие сосульки переливались в отблесках фонаря проезжавшей кареты.

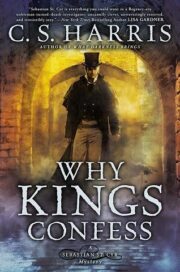
"Почему исповедуются короли" отзывы
Отзывы читателей о книге "Почему исповедуются короли". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Почему исповедуются короли" друзьям в соцсетях.