— Да кто — она? — не выдержала Алена.
В это время петух, раздосадованный, видно, нестройным ответом своих собратьев, громче и старательней повторил свою замысловатую ариетту, и Плетнев не расслышал ответа Саранчихи. Но он знал его. Еще в самом начале ее рассказа.
— …Она еще живая была, когда ее на самоходку подняли. Сказала, откуда и как зовут. Видно, в горячке сказала, а после в беспамятство впала и все мать звала. Ихний фельдшер ей перевязку сделал и укол, хотя сказал, что ей все равно крышка. При ней сумка с деньгами была — ровно восемьсот тридцать два рубля. Как раз столько она позавчера в автолавке наторговала. Копеечка в копеечку. А моторка вроде была Марьянина.
— Не жалко мне таких нисколько, — сказала Алена.
— А Федор мой жалеет, хоть и говорит, что так оно к лучшему случилось.
— Конечно, для родных так легче, — продолжала рассуждать Алена. — Меньше позора. Все-таки смерть, как ни говори, позор смывает.
— Вот-вот, — поддакнула Саранчиха. — Я тоже так сказала, так Сашка на меня волком глянул. Оно и понятно — она ж ему когда-то женкой была. И дите у них было, непутевое в мать. Отчаянная голова. Тоже на моторке себя загубил. А так славный был парнишка. Понятливый.
— Мне почему-то больше всех Лизу жаль, — говорила Алена. — Она такая хрупкая, болезненная. Такие люди, как правило, слишком впечатлительны. И с нервами у них не в порядке.
— Насчет нервов это вы точно угадали, — подхватила Саранчиха. — Хоть Лизавета на детей в школе сроду голоса не подымет. Они за ней как цыплята за квочкой ходят. Она и по горам их на экскурсии водит, и в цирк каждую весну возит, и в театры. А с матерью как сцепятся другой раз… Из-за Людки чаще всего — Лариса Фоминична с детства недолюбливала племянницу, это и со стороны заметно было. Недовольная была, когда Лиза к ней в гости заезжала. А Лизочка сестру жалела, крепко жалела…
Алена тихонько приоткрыла дверь и заглянула к нему в комнату.
— Не спишь?
— Я все слышал.
— Мы обязаны помочь Царьковым. Да, да, и материально тоже. Я обратила вчера внимание, что у них с деньгами не густо. Ни обстановки, ни ковров. На Лизе платьице пятирублевое. Правда, многие учителя не следят за собой и вообще одеваются как придется, но…
— Поможем.
— Знаешь, мне сегодня Светка маленькой снилась. — Алена присела на краешек его кровати, распространяя вокруг себя нежный запах лавандовой воды. — Не захворала бы она. Ты ведь знаешь, мать как зацепится языком с какой-нибудь подружкой с фарфоровыми челюстями — и все ей трын-трава. А ребенок будет в море сидеть до посинения. Прибалтика все-таки не Крым.
— Не Крым…
— Да что с тобой? Тебе жаль Царькову?
— Она не Царькова, а Фролова.
— Какая разница? Ты стал каким-то расслабленно-благополучным. С чего бы это? Я считаю, между добром и злом должны быть четкие границы.
— Чаще всего мы создаем их искусственно. Добро под стеклянный колпак помещаем, а зло загоняем в гетто.
Алена улыбнулась, кокетливо наморщив носик.
— Думаю, теперь, когда наш Миша чист как стеклышко, ты можешь… — Она не докончила фразу, вздохнула, поправила распущенные по плечам волосы. — Сознайся, ты очень переживал за брата?
— Да. Казнил себя, что не уберег его. Ведь я мог помочь ему справиться с недугом.
— Не идеализируй ситуацию. Яновский, говорят, снова запил, хотя его лечил какой-то супермодный доктор-гипнотизер. Ты рассказывал, Миша давно этим делом увлекался. А хронические заболевания, как ты понимаешь… Ладно, не будем об этом. Давай сохраним о Мише чистую и светлую память.
— Последнее время я совсем забыл, что у меня есть брат, — продолжал размышлять вслух Плетнев.
— Ну, зря ты на себя напраслину возводишь. — Алена нежно коснулась ладонью его лба, словно пробуя, нет ли у него температуры. — Я, признаться, одно время даже ревновала тебя к Мише. Тайно, конечно. Помнишь, мы с тобой отдыхали на Солнечном берегу и ты зачастил в бар? Ты говорил мне, что бармен Мишу тебе напоминает. Такой самобытный детина со смоляным чубом набекрень. Я таким и представляю себе нашего Мишу.
Плетнев потянулся за сигаретой.
— Вредно натощак. — Алена шутливо погрозила пальцем. — Сам знаешь, после сорока потворство вредным привычкам и эмоциям подтачивает организм. И морально, и физически. А ведь, если верить мудрецам, настоящий расцвет таланта наступает именно после сорока. Учти это, будущий обладатель «Оскара».
Уезжать решили сразу после похорон.
Уже с рассвета начал накрапывать мелкий, похожий на осенний, дождик, серое обложное небо не сулило скорых перемен, да и Чебаков сказал по телефону, что долгосрочный прогноз обещает дождливую погоду.
— А мы еще кукурузу не кончили убирать, — сокрушался он. — Мы, земледельцы, даже в наш космический век находимся в полной зависимости от прихотей небесной канцелярии.
Плетнев с опаской поглядывал на небо. Теперь, когда он настроился на отъезд, он ни от чего зависеть не хотел. Поэтому похоронный ритуал показался ему бесконечно долгим. Среди серой кладбищенской толпы было всего одно светлое пятно — перламутрово-голубой пластиковый плащ Алены, которая стояла по правую руку от Лизы. Он не видел Алениного лица, скрытого капюшоном, зато Лизино было доступно и дождю, и его взглядам. Мелкие бисеринки влаги изморозью блестели в ее волосах, отливая холодной голубизной Алениного плаща.
— Гляди, как Марьяна к Лизавете припала, — услышал Плетнев шепот Даниловны. — Сказывают, поначалу кричала ей: «Не подходи — убью! Не пожалею! Как ты Людочку не пожалела. Никто мою бедную Людочку не пожалел!» Даже палкой на нее замахивалась. А нынче, я сама слыхала, доченькой называла. Оно и понятно — они с Людой как родные сестры возросли.
Дождь припустил, когда гроб уже опустили в могилу и на него посыпались комья рыжей грязи. Плетнев увидел, как подъехавший к воротам кладбища на «газике» Чебаков подхватил под руки Алену с Лизой, на локоть которой опиралась сгорбленная, с застывшим как маска лицом Марьяна, и повел их к «газику». У машины остановился, поджидая Плетнева, сказал, указывая пальцем на его «жигули»:
— Давайте мигом, не то дорогу так развезет, что только трактором можно будет вытянуть. А они у меня все в степи, на кукурузе.
Плетнев коротко попрощался с Сашкой Саранцевым, поблагодарил за заботы Даниловну и с места рванул машину. Чебаков с женщинами ехал сзади. Плетнев видел в боковое зеркало его серьезное рыжеусое лицо и рядом с ним нахохлившуюся невыспавшуюся Алену. В глубине «газика» было темно, и Лизу он не видел.
На асфальт они выскочили в самый раз. И так уже «жигули» кое-где пробуксовывали. Плетнев затормозил на кромке, поджидая, пока неуклюжий «газик» одолеет насыпь на шоссе. Едва его колеса успели коснуться асфальта, как Алена легко спрыгнула с подножки и бросилась бегом к «жигулям».
— Ну вот, назад дороги нет. — Она весело улыбнулась, стаскивая небесно-перламутровый плащ. — «Благословляю я свободу и дождевые небеса», — пропела она. — Накройся моим плащом и удостой их своим последним «прости-прощай».
К вечеру они уже были под Воронежем.
До самолета еще было больше суток, но Плетнев решил не делать остановку — он любил ночную езду.
Сперва Алена дремала на заднем сиденье, потом пересела вперед, включила радио. Сквозь треск электрических помех пробивались звуки ми-мажорного этюда Шопена. Они крепли, заполняя собой все пространство в машине, вставая невидимой стеной между ним и притихшей Аленой. Теперь, под прикрытием этой стены, он мог спокойно думать о Лизе, не опасаясь, что Алена может разгадать его мысли. О коротком прощальном пожатии ее крепкой горячей ладони, о ее воспаленно поблескивающих в темноте машины глазах, об этом слегка виноватом: «Я напишу тебе, ладно? Один раз…»
Еще он вспоминал притаившийся среди старых раскидистых деревьев дом, в котором пахнет травами и приближающейся осенью.
Письмо Лизы пришло в ноябре. Она сообщала, что, как только Лариса Фоминична вышла из больницы, они втроем поехали в Пятигорск навестить бабушкину сестру, которая живет одна в небольшом домике на окраине города, да так там и остались.
«Марьяна вышла на пенсию по возрасту, мама, несмотря ни на что, работает на продленке в школе, ну а я преподаю русский язык и литературу в старших классах», — сообщала Лиза.
Обратного адреса она не написала. В конце письма была приписка, другим цветом и покрупнее, будто сделанная второпях.
«За домом приглядывает Даниловна. Она и могилки обещала убирать. Я раздумала его продавать, хотя поначалу не только продать — поджечь хотела… Если будет желание, можешь приехать и жить в нем в любое время. Я, наверное, не приеду туда никогда».
Оля сидела за хлипким столиком возле заставленного горшками со столетником окошка и писала письмо Татьяне, своей подруге. С Татьяной ее связывали не только годы совместной учебы и даже не концерты, которых они прослушали великое множество, пристроившись на ступеньках амфитеатра Большого зала консерватории, а еще и полная схожесть взглядов на жизнь. Кому, как не Татьяне, написать о том, что она скучает по Москве, по их студенческому бесшабашному быту, что здесь, в этом небольшом южном городке, она чувствует себя в стороне и от музыкальной жизни, и от жизни вообще.
«Ты мне, Татуша, не поверишь, но в первый вечер я самым настоящим образом разревелась. Хозяйка отвела мне лучшую комнату в доме, как здесь называют, «залу». Так вот, в этой самой зале со слониками на допотопном «Шредере», с вышитыми салфетками на музейном диване, с большим фикусом возле опять-таки музейного зеркала с мутными пятнами я вдруг почувствовала себя никому не нужной, совсем одинокой. Завалилась на высокую пуховую постель и распустила нюни. Хозяева смотрели до победы телевизор, потом проверяли засовы… Хозяйка и мне велела закрыть на ночь ставни, чтобы кто-нибудь сдуру камнем не шарахнул. Ходики так громко стучат, что я их остановила. На следующее утро она перевесила их в свою комнату. Галина Семеновна, или, как она просила называть себя, баба Галя, относится ко мне хорошо, но пока — как к гостье. Не хочу злословить, но жизнь они тут ведут престранную: все тащут и тащут в свой дом. Запасы создают такие, будто скоро конец света. Баба Галя хвалилась, что стирального порошка и мыла запасла впрок на целую пятилетку. А вдруг, говорит, подорожает. Представляешь? Правда, она войну пережила, одна с двумя детьми. Словом, как ты понимаешь, не нам осуждать…
С училищем пока тьма мороки: и педагогов не хватает, и ремонт еще не закончили в старом особняке, который нам отвел горсовет. К тому же подготовка у большинства студентов на редкость слабая — кое-кому даже приходится заново руки ставить. И так они, бедняги, зажаты, скованы за инструментом. В общем, все иначе, чем я себе представляла…»
Да, Оля все представляла иначе. Думала, преподавателю музыки придется заниматься лишь своими прямыми обязанностями. А пришлось и дважды ездить за настройщиком в областной центр, и отбивать натиск директора совхоза, возмечтавшего заполучить студентов-музыкантов на целый месяц для уборки винограда, и уговаривать кровельщиков, чтобы потише ругались, когда идут занятия. Словом, Бог знает чем пришлось заниматься и меньше всего — музыкой. Сейчас, правда, все постепенно входит в колею. На дворе стоит теплая, нарядная осень, с прохладными ночами и свежими туманными утренниками. В хозяйском саду обрезали и скрутили виноградную лозу, ждут заморозков, после которых, как говорят, «лоза лучше родит», а там зароют на зиму.
Оля сидела над недописанным письмом, но мысли ее уже были далеко. Почему-то нет до сих пор Валерки Антонова. Обычно по воскресеньям он приходит часам к двенадцати и торчит до самого вечера. Сперва Оля думала, что он приходит в гости к бабе Гале, с которой состоит в сложном, довольно запутанном родстве, но потом оказалось, что баба Галя тут ни при чем.
— Тебя не было — месяцами носу не казал, хоть и доводится мне… постой, постой… ну да, троюродным внучатым племянником по мужу, — дела все у него какие-то, — говорила баба Галя. — А сейчас и дела все по боку. Ох, смотри, девка. Правда, парень он неплохой…
Баба Галя замолкала и со значением поджимала губы.
Этого Оле можно не бояться. Иной раз ей кажется, будто от всех людей ее отгораживает прозрачная стенка. Ей все за ней видно, она понимает, что там происходит, а вот вмешаться в ту жизнь нет сил. После того, что было у них с Ильей…
— Ольга, обедать ступай, — зовет из соседней комнаты баба Галя.
Теперь она накрывает на стол не в саду под грушей, как в сентябре, а в проходной комнате, где от печки такой адский жар, что даже любитель теплых закутков черный кот Ибрагим предпочитает растянуться на полу под дверью.

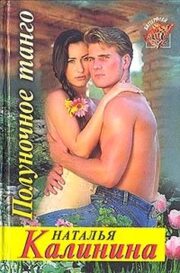
"Полуночное танго" отзывы
Отзывы читателей о книге "Полуночное танго". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Полуночное танго" друзьям в соцсетях.