Там находилось шесть трупов, а в ногах у них аккуратно стояли в ряд шесть гробов. И семьи, собравшиеся в полном составе, чтобы провести ночь подле мертвых, как требует того средиземный церемониал, без стеснения громко рыдали.
Освещение было самое скромное: зачем тратить королевское электричество, когда тот же самый средиземный церемониал заставляет самых бедных близких ставить пару церковных свечей около каждого покойника. Итак, двенадцать дымных огней плясали в тяжелом и зловонном тумане, который представляла из себя атмосфера этого места: смесь ладана, мускуса, свечного нагара и тления. Это угнетало до такой степени, что для глаз и для носа раненого, только что доставленного с поля сражения, первое знакомство с госпиталем не было весьма утешительно.
Люди, которые несли мои носилки, не преминули споткнуться при проходе об один из гробов, и прежде, чем я достиг моего собственного помещения, я едва не был предварительно – и грубо – свален в другое помещение, поуже, которое обыкновенно занимают раз и навсегда. Мертвец, зеленый в своих белых простынях, ухмылялся в полумраке, без сомнения обрадованный шуткой такого хорошего вкуса. А его близкие, болтавшие вокруг него, должно быть ради того, чтобы бдение было как можно благочестивее, завизжали от ужаса при мысли о кощунстве, едва не совершенном мною.
Прошли мимо мертвых и пришли к живым. И здесь было еще менее пышно, в особенности менее подметено. Сверх того, чувствовался жестокий недостаток в освещении: одна электрическая лампочка без абажура свешивалась с потолка, так что ничего не было видно и все-таки было больно глазам. К счастью, бесчисленные мухи усеяли стекло – и стены, само собой разумеется, и потолок впридачу – мириадами и мириадами черных точек, и сквозь эту сетку просвечивало электричество.
Что касается до четырех углов обширной впрочем залы, они терялись в самом глубоком мраке. И туда, в этот дружественный и союзный госпиталь, которого я не назову, так как не могу сказать о нем столько хорошего, сколько бы мне хотелось, туда сначала доставили нас пятерых – единственных оставшихся в живых с миноносца № 624: это было сделано, как только крейсер французско-английского флота мог высадить нас на берег.
Я был цел: ни одной царапины. Я никогда не узнал, почему господа врачи назвали меня тем не менее «раненым». Я не был ранен, я был в обмороке, в спячке, или если так вам кажется лучше, в летаргии. Я потерял сознание на курятнике, служившем нам плотом после того, как № 624 закончил свое умирание.
Позднее ко мне вернулись слух, зрение, обоняние, вся весьма сложная совокупность умственных способностей, но я оставался парализованным с ног до головы, и мое сердце казалось совсем неподвижным, притом навсегда. Словом, я до такой степени походил на мертвого, что врачи едва не похоронили меня самым исправным образом. Врачи имеют прескверное обыкновение смотреть на гробовников как на своих добрых собратьев, которым вежливость заставляет всегда и без замедления передавать всех клиентов, каких только можно передать.
Все-таки я видел и я слышал, я как раз видел, как снимали с носилок моих четверых товарищей, и слышал, как они стонали, когда носильщики, санитары-мальтийцы, сильные, но грубые, расшвыряли их по постелям. Мы все пятеро находились в одном углу, на редкость темном, и ближайшим моим соседом был мой бывший рулевой старшина Амлэн, орудийный унтер-офицер. О нем-то я и хочу поговорить прежде всего.
Менее живописный, нежели я, Амлэн не был похож на труп, но не был похож и на живого человека, по крайней мере на такого живого, который упрямо хочет жить. Мина и австрийские снаряды почти что пощадили его, но кораблекрушение меньше с ним церемонилось. Правда, это было плохое кораблекрушение. В девяти случаях из десяти тонущее судно начинает с того, что «делает оборот» – корпусом вверх, килем в воздух – затем становится вертикально, обращая к небу фортштевень, ныряя и погружаясь кормой, и затем, наконец, скользит спереди назад и тихо-тихо, без сотрясения, исчезает.
Но № 624, перерезанный посредине, не мог потонуть как все: из обоих его обломков один не имел кормы, а другой не имел носа. Поэтому все произошло грубо.
Амлэн, сброшенный с мостика на спардэк, сломал себе там прежде всего обе ноги. Затем его штурвал, сорвавшись с подставки и свалившись на него с высоты по крайней мере трех метров, проломил ему голову и придавил грудную клетку: пролом черепа, перелом двух ребер, перелом ключицы. Словом, скорее куски человека, нежели целый человек. И эти окровавленные, пораженные гангреной куски, тотчас же начали бредить, потом, весьма понятно, агонизировать. Агония даже шла полным ходом гораздо ранее, чем наши носилки прибыли в госпиталь. Как только мы очутились там, санитар, заведовавший гробами, пришел нас осмотреть, чтобы сосчитать своих возможных клиентов; увидя Амлэна, он остановился, покачал головой и без дальнейших колебаний снял с него мерку: этот раненый уже вполне стоил мертвого, и положить его в гроб было делом лишь нескольких часов или минут.
Амлэн не протестовал: он хрипел.
Я слышал, как он хрипел, сильным, глубоким, прерывистым хрипом. И я видел, как он неровными движениями своих сжатых и трясущихся рук тянул свою простыню к подбородку: классический жест, который каждый человек делает один раз в жизни, лишь один раз… за исключением чуда…
И вот в данном случае произошло чудо: Амлэн, у которого все время держалась весьма постоянная температура в 40,9° (термометр все время стыдливо вставлялся ему подмышку, в другом месте он показал бы, конечно, 42° или без малого…). Амлэн, пульс которого никто не мог уловить, а сердце уже в течение тридцати или сорока часов возымело обыкновение останавливаться через каждые десять минут и возобновлять свой ход только когда это ему было благоугодно… через три, четыре, пять и десять секунд после того, когда оно остановилось, Амлэн, который, проделывая это, не переставал издавать все более и более глубокий и зловещий хрип, разыграл перед всем госпиталем – морильщиками, санитарами, гробовщиками и прочими – самый неприятный фарс, который только можно себе представить: он не то, чтобы взял да воскрес… по крайней мере, не сразу… но он разом, не говоря худого слова, переменил, вопреки всем правилам Гиппократа, свой способ агонизировать. Он от этого не чувствовал себя лучше: его сорок градусов и девять десятых не спустились даже до сорока градусов и восьми десятых; его пульс продолжал быть неуловимым; его сердце продолжало биться и останавливаться, как и перед этим. Но Амлэн, никто не мог бы угадать почему, неожиданно перестал хрипеть и снова начал бредить. И при том это был в полном смысле этого слова ужасный бред.
Я не представляю себе ничего в мире мучительнее, чем слушать этот бред. Впрочем, судите об этом сами. Амлэн считал себя мертвым, говорил о себе в прошедшем времени и странствовал среди самых разнообразных загробных миров, в общем малоутешительных. Без сомнения, при жизни он часто менял свои верования: все сменявшие друг друга религии его приходили ему в голову, одна за другою, включая сюда атеизм. Тогда он представлял себя снова обратившимся в полное ничто и смутно припоминал о некоем Гискаре Амлэне, как вспоминают о каком-либо жившем при Перикле или Карле Великом человеке, о котором ничего не знают, кроме его имени, и который никогда ничем не был для нас. Затем атеизм исчезал, и его заменяло Бог весть что, и мертвый Амлэн снова начинал жить таинственной и странной второй жизнью, о котором ни религия, ни философия не давали мне никогда никакого представления.
Не забудьте, что я тем временем продолжал находиться в летаргии и имел вид настоящего покойника, хотя все продолжал ясно видеть и слышать. Два или три раза Амлэн приподнимался на своей постели, как бы каким-то скачком, сила которого изумила меня у умирающего: он опирался на свои согнутые руки и внезапно разгибал их словно пружины катапульты; два или три раза, подпрыгивая таким образом, он обращал ко мне голову и пристально смотрел на меня в то время, как подскакивал и падал, – это время казалось мне долгим: взгляд Амлэна, такого близкого к смерти, тяжело давил меня… давил мой мозг, мою память, мое сознание… всего меня… давил, как давит угрызение совести. И это действительно было угрызение, оно вставало в глубине моей совести; смутное угрызение; все-таки угрызение. И, по крайней мере, один раз мне случилось услышать, как он, посмотрев на меня таким образом, явственно произнес мое имя.
Я слышал также, как он произносил другие имена: какое-то женское имя, без сомнения имя женщины, которую он любил, той девушки с фермы, «скромной и красивой»… имя ребенка, без всякого сомнения – его ребенка.
Часы тянулись.
Голос умирающего повышался и падал подобно пляшущему пламени. Иногда он был, довольно отчетливый, затем совершенно глухой; то сильный как крик, то слабый как последний вздох.
Прошли еще часы, и еще. Госпиталь, шумный весь день, затих. Настала ночь и прошла. Забелела заря. Возвратилось солнце. Опять в свою очередь возвратилась ночь, и так пять раз сряду.
Амлэн, раньше хрипевший тридцать или сорок часов, пробыл в бреду не менее восьмидесяти.
И ему случилось в этом бреду, – на пятый день, когда была полночь, – вступить, если я могу сказать, в разговор с… не знаю с кем… или не знаю с чем… с Богом может быть… с каким-то невидимым и грозным существом, которое его вопрошало, и которому он отвечал тоном несказанного ужаса… я не слышал вопросов, которые доходили только до него одного; но все-таки я понял, что эти вопросы должны были быть гораздо страшнее всего, что могут вынести человеческие уши.
2. Те же и другие
Другие раненые – это были мы четверо, единственные оставшиеся в живых, вместе с Амлэном, с покойного номера 624-го, бывшего моего корабля, один минный комендор, один баталер, один машинист и я, Фольгоэт. Почему здесь был я? Я, начальник – на суше, спасенный, живой, вместо того, чтобы быть там, где я должен был быть, где был мой экипаж, под двумястами саженей хорошей морской воды, прилично похороненный, погибший как капитан, вместе со своим кораблем… Почему? О! просто потому, что последняя конвульсия номера 624-го, «делающего оборот», меня ошеломила, и потому, что мои люди, как ни были они искалечены, истерзаны, десять раз рисковали своей жизнью, чтобы спасти мою: я был без чувств, я не противился, я даже ничего не понимал. Клянусь здесь, что в этом совсем не было моей вины.
Каким образом спаслись минный комендр и машинист? Господь, который это знает, не сказал мне об этом. Оба они имели по девяносто девяти шансов против одного остаться навсегда: один в своей минной камере, а другой в машинном отделении. Машинное отделение находится под броневой палубой, в подводной части судна. Минная камера от пола до потолка набита пироксилином. Ни тот, ни другой из моих ребят никогда не вспоминал о фантастическом водовороте, который вынес их из их жаровен на свежий воздух. Допустим, если ваше религиозное чувство не будет этим слишком задето, что тут вмешался какой-нибудь архангел, получивший от своего начальства поручение принять на себя это странное дело.
Что касается до баталера, в бою находившегося под открытым небом, так же, как я сам, он на шкафуте, я на мостике, дело объясняется проще: достаточно было того, что этот молодец родился в сорочке, и что всем его прадедам, до пятнадцатого или двадцатого колена, везло, то есть что называется отчаянно везло… и что все прабабушки сделали для этого все необходимое, даже кое-что лишнее… и сам он, впрочем вполне законно, получил наследство предков сполна.
В сущности все эти «почему» не имели никакого значения.
Важна только сумма, получившаяся в результате сложения: умирающий Амлэн, плюс принятый за умершего Фольгоэт, плюс баталер, плюс минный комендор, плюс машинист, все трое одинаково тяжело «пристукнутые». Это как раз составило пять; пять «выкрутившихся». Точка. Вот и все.
Из семидесяти вычесть пять – остается шестьдесят пять. Эти шестьдесят пять спят последним сном на дне Адриатического моря… маленький Шефтель… храбрый Фург, и другие… и Арель-Душка…
Из нас, пятерых живых, четверо бредили. Амлэн – так, как я сказал; баталер, минный комендор и машинист – как обыкновенно бредят. Я один не бредил и не без причины:
– Он умер, – заявил, едва взглянув на меня ординатор.
– Отчего умер? – спросил старший доктор, после внимательного исследования моего неповрежденного тела.
– Умер от сотрясения. Разрыв сосудов, – подсказал служитель.
(Я все слышал, не забывайте).
В конце концов они решили не хоронить меня тотчас же. Если бы я мог издать малейший звук, я воскликнул бы. Уф! Быть погребенным заживо, нет. Представляю себе, что это мне не понравилось бы.
Только утром шестого дня, довольно неожиданно, вышел я из моей летаргии. И вовремя: доктора, хотя и бывают немного рассеянными, но перед этим шестидневным трупом, который злостно отказывался разлагаться, – находятся же люди, которые даже на краю гроба мешают другим делать свое дело, – доктора решили не обращать на это внимание и назначили мои похороны на вечер того же дня. Положение во гроб должно было состояться даже в полдень.

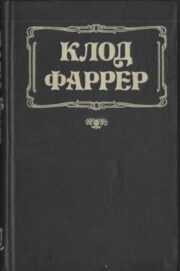
"Последняя богиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Последняя богиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Последняя богиня" друзьям в соцсетях.