Итак, я ожидал, что мне придется провести после плохого дня несколько… нет: одну только предлинную и слишком темную, поистине неприятную ночь – на слишком узком и плохо обитом ложе, когда вдруг я почувствовал, что тайные узы, которые меня связывали, сами собою развязались, и я оказался свободен.
Я не был еще отнесен в покойницкую, вокруг меня еще не поставили свечей. Итак, судьба избавила меня от самого неприятного в этом приключении. Тем не менее среди раненых, санитаров и других окружавших меня людей возник суеверный ужас, и все перекрестились раньше, чем изволили вообще удостовериться, что я жив.
Но медицина, раздраженная тем, что должна была опустить флаг перед фактами, не сочла себя побежденной: она старалась отомстить за себя и вскоре этого достигла. Едва переступив за дверь госпиталя, этого чистилища, о котором позабыл Данте, человек, попавший туда, становится хуже, чем рабом – вещью этих людей, стоящих выше закона, врачей, которые имеют над ним безграничное и бесконтрольное право жизни и смерти.
Летаргия, относительно которой господа врачи так ошиблись, что приняли ее за смерть, и это в течение шести дней, не могла не оставить в организме мнимого мертвеца следов, которые не были замечены до тех пор, которые впрочем медики тщательно остерегались определить, но которые были, по их заявлению, очень глубокими, следовательно очень страшными, как для меня, так и для других. Итак, нужно было стереть эти опасные следы, по крайней мере ослабить их, хотя бы ценою моей свободы или в данном случае ценою моей чести: потому что честь солдата во время войны находится естественно, на поле сражения, а не в госпитале.
– Вам нужно долго, долго… бесконечно долго поправляться, чтобы немного восстановить свое здоровье. К тому же в вашем состоянии вы не подлежите перевозке: Франция слишком далеко.
– Не подлежу перевозке? Я? Но я чудесно хожу, хожу как плотник, пью как церковный певчий и ем как Гаргантюа!
(Только через добрую неделю после моего пробуждения, добился я этого насущно важного для меня разговора со старшим врачом, существом олимпийским, следовательно малодоступным).
– Вы пьете, вы едите, вы ходите, пусть так: одна только видимость! Дорогой мой, позвольте мне вам сказать, это не говорит решительно ничего в пользу вашего здоровья.
– Во всяком случае это доказывает, что я могу сражаться, а это все, чего я желаю. Если я хожу, если я пью, если я ем, если даже я делаю гимнастику и упражнения с гирями, хотелось бы мне знать, какой физической способности мне не хватает, чтобы немедля вернуться на фронт.
– Какой способности? Я этого не ведаю, но, конечно, какой-то вам не хватает, вероятно нескольких. И вы понимаете, что при таких обстоятельствах мне положительно невозможно вам позволить… Мой долг этому противиться, решительно противиться…
– Как!.. решительно… вы говорите об очень долгом, бесконечно долгом выздоровлении… Что же это значит? Сколько дней?
– Не будем говорить о днях. Будем говорить о месяцах и скажем… полгода, может быть год… по меньшей мере…
– Хороший срок вы мне назначаете! Отдаете ли вы себе отчет, что через полгода, а вероятно раньше, война окончится?
(Тогда, в сентябре 1914 года, едва через неделю после победы на Марне – все думали как я, и все говорили как я).
– Это возможно, но недостоверно.
– А достоверно ли, что мне не хватает способности, о которой вы говорите, чтобы тотчас же отправиться сражаться?
– Полной уверенности в этом у меня нет.
– Значит?
– Значит?.. Я врач, занимаюсь медициной, и медицина, которая является моим единственным занятием, положительно воспрещает мне разрешить вам сумасбродство, о котором вы просите.
– Значит?
– Значит, прежде всего вы пробудете здесь месяц или два… О! как раз столько времени, сколько необходимо, чтобы мы могли объявить, что вы приедете во Францию не мертвым, или сумасшедшим, или… мало ли что!.. слепым например. А если бы одно из этих несчастий случилось… Ах!.. я предпочитаю не думать об этом… Видите ли, я старый человек, у меня совсем седые волосы и борода также, но никогда до сих пор не подвергался я никакому выговору от моих начальников за то, что касается моей профессии. И я не хотел бы подвергнуться этому за все золото в мире… Этот выговор я рискую получить, если позволю себе исполнить вашу просьбу. Извините меня.
Они твердо стояли на этом. И я напрасно протестовал, умолял, угрожал. Это было все равно, как если бы я молчал: я оставался их пленником, пленником медицины, пленником наших всемогущих господ: Фомы Диафуаруса, Пюргона и Компании! И это на добрых восемь недель. О госпитале, о городе и обо всей Мальте, обо всем этом высочайшем и благороднейшем утесе, где царили рыцари святого Иоанна, куда Бонапарт вступил, почитая себя весьма счастливым, что один мальтиец отворил ему ворота, которые он, может быть, не мог бы высадить; об этом утесе, на котором англичане, владыки моря, в конце концов водрузили вместо флага свой трезубец Нептуна, я сохраняю буквально тошнотворное воспоминание.
Только в конце этих восьми недель, самых длинных в моей жизни, как если бы я был посажен в тюрьму без всякого повода и причины, был я освобожден совершенно. Действительно, накануне моего освобождения я чувствовал себя значительно хуже, нежели на другой день после моей летаргии.
Потому что в промежутке между тем днем и этим война активная – всецело героическая, пылкая, лихорадочная, беспокойная, опьяняющая и (все тогда в это твердо верили!) молниеносная как удар грома – сделалась другой войной, монотонной, бесформенной, неподвижной, стоячей, окопной войной, и (все инстинктивно угадали это сразу) эта новая война должна была быть томительнее и длиннее, нежели целый день, – нет! – целый век без хлеба.
Итак, мне было отказано во всех тех радостях, на которые я прежде надеялся при этой, впрочем, безумно невероятной гипотезе. Европейский конфликт затянулся, и на меня должны были в изобилии посыпаться многие и многие тяжелые труды, многие и многие мизерные страдания, многие и многие ограничения, многие лишения, которых я никогда не предвидел, когда я старался в отдаленное время мира угадать, на что могла бы походить будущая война, эта недопустимая война.
Чем она была, вся Европа это знает, даже слишком хорошо знает. Как тяжело действовала она на нервы такого человека, каким был я: каким я может быть никогда не стану вновь, если будущее позволит мне вновь сделаться чем-нибудь… чем-нибудь живым… Как тяжело действовала она на нервы человека, вся жизнь которого была только ощущениями, поисками ощущений, погоней за ощущениями, жаждой ощущений, и который никогда ничем не пользовался, – наукой, любовью, искусством, – без того, чтобы не злоупотреблять ими инстинктивно, под влиянием порыва, сколько пришлось этому человеку выстрадать от того рода бездействия, которым была для него война, – этого никто не знает. И я клянусь вам, это с трудом можно себе представить.
Наконец, около середины ноября я снова прошел, покидая мой госпиталь, через эту покойницкую, через которую нельзя не пройти ногами вперед или ногами по земле, чтобы войти туда или выйти оттуда, и я вышел. Прежде всего я отправился в Тулон, и там, в виде утешения, мое начальство огорошило меня бессрочным отпуском: долгое выздоровление, на которое меня осудили a fortiori, естественно, не преминуло обрушиться на меня.
Тогда – логическое последствие всякого отпуска – я отправился в Париж. Я уехал оттуда за четыре месяца перед тем. Я возвращался туда едва изменившись. Окопная война только что начиналась: до сих пор я испытал только потрясения мобилизации, первых поражений, первых побед, и я вынес только бремя восьми недель моего пленения, пустяк тяжелый для моих тогдашних плеч, в 1914 году, но до какой степени легкий для меня теперь, – в 1919 году! Понадобились годы 1916, 1917, 1918, чтобы согнуть мой затылок, наклонить мою голову. Я не представлял себе в 1914 году, чем будут эти годы…
Как и за три месяца до того, я вышел из поезда на платформу вокзала, и меня увез наемный автомобиль; и, как за три месяца до того, мне случилось в сумерках поехать туда, куда, я вам уже говорил, лучше бы мне было совсем не ездить…
Но на этот раз случилось то, чего со мной раньше не случалось: произошла остановка в пути… И я не увидел вновь ни решетки, ни Гефсиманского сада, ни дома в глубине сада, ни той, которая жила в этом доме…
3. Кладезь истины
На пятый день моей летаргии или моей спячки, или всего, чего вам угодно – доктора, как водится, не пришли к соглашению относительно моего случая, – итак, на пятый день, в полночь, Амлэн, который вот уже двое суток без перерыва весьма благоразумно, смею сказать, весьма буржуазно бредил, вдруг сразу переменил голос, тон, даже выражение, до такой степени, что при этой перемене я подскочил, как козленок… в мыслях, само собою разумеется, потому что в ту ночь я все еще продолжал уподобляться трупу. Амлэн, подпрыгнув на своей постели, как он делал это уже не раз, повернул ко мне голову, посмотрел на меня, и я услышал его голос, все такой же хриплый, каким он был все это время.
– Любопытно! Он умер… Командир умер… Черт дери, да каким же образом я еще не видел его здесь?.. Я видел всех остальных… даже этого Ареля… Шшш… Об этом, об этом я не имею права говорить…
И вот тогда внезапно его голос изменился, изменился, как я сказал… хуже, чем я сказал… хуже, чем я когда-нибудь мог бы сказать!.. Это уже не был человеческий голос…
Это началось какой-то дрожью, полной мучительного страха. Он сказал:
– Ага… теперь я? Это моя очередь?..
И он молчал в течение довольно долгого времени.
Когда он вновь заговорил, его первоначальный страх сменился ужасом, который буквально оледенил меня до мозга костей. Он прошептал:
– Да… Амлэн, это я… прости!.. Некоторое время спустя, отрывистее:
– В виду неприятеля, ты хорошо знаешь… На миноносце… на посту… прости! прости!..
Опять молчание. Казалось, он слушал теперь вопросы невидимого существа, потом на них отвечал. И в то время, как он слушал и отвечал, его ужас все возрастал до такой степени, что наполнил меня самого суеверным, непонятным и оттого еще более невыносимым страхом. Я, мнимый мертвец, думаю, что я по-настоящему умер бы, если бы Амлэн слушал и отвечал еще хоть пять минут.
Насколько я помню, а я помню это достаточно ясно… – немало воды утечет, пока я об этом позабуду – вот, слово в слово, то, что я услышал:
Амлэн только что пробормотал слова, которые я передал:…«На миноносце… на посту»… после чего, почти сейчас же, он опять с усилием заговорил:
– Гордость? Да, это была гордость, потому что поста уже не было! Потому что не было уже ни руля, ни румпеля, ничего… Но…
Внезапный перерыв, как бы скачок. Молчание. Затем:
– Да… конечно… я об этом думал… о дисциплине… о примере… обо всем этом… Но потом… только потом… и затем пример. Для кого? Потому что все те, которые там находились, должны были умереть… значит, это ни к чему не служило, пример… Конечно, это была гордость… только гордость… Я каюсь…
Опять перерыв. Опять молчание. Потом Амлэн завопил весьма, весьма униженно:
– Ну, конечно, я совершал всякие грехи… Я был горд, всегда… и развратен, и гневлив… Да, я согрешил против отца… однажды… я ударил его… по лицу… потому что он отказывал мне в женщине, которую я хотел… я каюсь!..
Молчание. Молчание.
– Мать?.. нет! нет! Я так любил ее, что не мог бы выказать ей неуважение: ей… маме. Это невозможно!.. как бы можно было это сделать? Тогда это в счет не идет: нет у меня заслуги. Все-таки помилуй, помилуй! Прости! Прости!..
Он не произнес эти слова, а прорыдал. Во всю мою жизнь не слыхал я, даже не воображал такой жалобной мольбы, как мольба этого сурового человека, которого я не считал способным когда-нибудь о чем-нибудь умолять.
Он сказал еще:
– Прости за все! Во всем каюсь! Сжалься! Ох! сжалься, сжалься надо мною!..
Тогда я понял.
Я понял, что Амлэн, блуждая между небытием и бессмертием, соответственно фазам своего таинственного бреда логически приходил наконец к своим первоначальным строгим верованиям и испытывал в это мгновение самые ужасные муки того, что люди, в поисках ужасающего их Бога, называют страшным судом…
И Амлэн продолжал слушать, продолжал говорить; словом, продолжал отвечать на тот страшный допрос, который, согласно всем богословским теориям, отделяет время от вечности.
Воистину зрелище должно было быть довольно странным: этот мертвец Амлэн, – в сущности действительно умерший, потому что Бог говорил с ним лицом к лицу, но по мнению людей живой, потому что его тело еще не остыло, и губы еще говорили, – этот мертвец Амлэн исповедывался вслух во всех самых сокровенных тайнах своей жизни перед этим живым, передо мною, Фольгоэтом, которого люди считали мертвым, и который настолько не был мертв, что не мог заглушить в себе даже одного чувства, свойственного живому человеку: не мог не слышать.

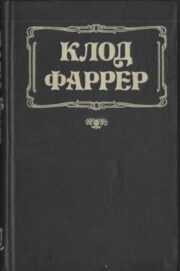
"Последняя богиня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Последняя богиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Последняя богиня" друзьям в соцсетях.