– Может, у него аритмия? – неловко пошутила я.
– Что мне делать, Лена?
– Забудь о нем, Рената.
– А-а. – Рената пристально посмотрела на меня своим недавно прозревшим глазом. – Ты сама до сих пор любишь его! И ревнуешь!
– Вот еще выдумала! Дело не в Игоре, а в тебе. Знаешь, как бывает: влюбишься в кого-нибудь, а потом всю свою жизнь из-за него губишь. А он и смотреть в твою сторону не желает.
– А ты долго добивалась Игоря? Расскажи.
Я не добивалась. Меня удерживала девичья гордость – бытовало в то время такое понятие. Навязываться парням считалось неприличным. Игорь и не догадывался о моей любви или не принимал ее всерьез. А как женился на Ольге, так и я с горя замуж вышла.
– Но потом все-таки он стал твоим?
– Это как-то помимо моей воли получилось.
– Нет, я не такая. Если полюблю кого, любые преграды сломаю. Или умру, или он станет моим.
– Не надо, Ренаточка, себя дурить. Игорь – крепкий орешек. Он только с виду мягкий и приятный. Сама посуди, мог бы мягкий человек стать президентом акционерного общества?
– Он не такой, как все. Разве другой директор предприятия стал бы возиться со слепой девушкой, помогать ей?
Мне трудно было раскрыть Ренате всю сложность натуры Игоря. Он всегда удивлял меня своей противоречивостью: импульсивен и расчетлив, добр и безжалостен, умен и недалек. Каждая женщина могла увидеть в нем свой идеал. Рассмотреть что-то близкое именно ей. И беззаветно полюбить этого человека, наделив его желанными ей качествами. Для такой художественной натуры, как Рената, достаточно только одной черточки – остальное сама достроит. Седовласый респектабельный Игорь с безупречными манерами, необъятной эрудицией и отзывчивостью к чужому горю – замечательный материал для скульптора, ваяющего в своем воображении образ идеального мужчины.
Бедная Рената! Ведь ей неведомо, сколько молоденьких женщин до нее стали жертвой обаяния Игоря. И разве сама я не грезила Игорем столько лет? Но возможно, годы усмирили его мужскую прыть? Да и нынешняя жена Игоря, Вероника, моложе его на десять лет и выглядит не старше Ренаты. При такой эффектной жене ему следует не по сторонам смотреть, а за супругой приглядывать.
А может, Рената не ошибается в своих предчувствиях? Может, Игорь снова ступил на тропу завоевателя? Рената – такая чувственная девушка… И внешне привлекательная, одни волосы чего стоят! А ее недостаток с глазом почти не заметен, во всяком случае, не умаляет ее женских прелестей. Но почему я так противлюсь предположению о взаимности их чувств? Уж не ревную ли?
Чтобы отделаться от ненужных размышлений, я сменила тему разговора:
– Рената, у тебя есть уже проект новой скульптуры? Это будет фигуральная работа или абстрактная?
– Ты видишь в этом принципиальное различие?
– Все-таки фигуры привычнее, демократичнее. Они всем понятны.
– Думаю, на этот раз все будут удовлетворены.
– А подробнее?
– Извини, Елена, я не могу обсуждать еще неначатую работу.
В то время как Рената пылала чувствами к Игорю, у меня усиливалось влечение к Матвею. К этому тщедушному, некрасивому, но очень самобытному человеку. Матвей являл собой абсолютную противоположность Игорю: начисто лишен честолюбия, не стремится к должностям, равнодушен к деньгам.
Поведение Матвея в машине во время нашей единственной совместной поездки зацепило меня своей дерзостью и непосредственностью. Вся моя девичья, да и замужняя жизнь прошла почти по-монашески – никто не целовал украдкой в темном подъезде, не обнимал в метро, на ступеньках эскалатора. Потому-то шальной поцелуй Матвея и свел меня с ума. Но проблемы с Ренатой на время заслонили тот замечательный для меня день. И Матвей при встречах держался по-прежнему почтительно, но на расстоянии. Он снова величал меня Еленой Павловной, хотя мы и условились обходиться без отчества. Я терялась в догадках, помнит ли он ту поездку или она стала для него проходной случайностью.
В одну из суббот он привел мне на занятие детского кружка Лизоньку. В тот день мы с детьми учились разбирать цвета, подбирая гармоничные и конфликтные. Я раздала детям квадратики картона всех оттенков цветовой палитры и предложила им собрать пары дружных и враждующих квадратиков. Было очень интересно наблюдать, как дети, пользуясь только интуицией, иногда верно угадывали гармонирующие цвета, например коричневый и зеленый. Но Лиза выделялась тем, что укладывала рядом абсолютно враждебные друг другу цвета: красный и зеленый, синий и коричневый.
Но если бы такая кричащая непосредственность проявлялась только в ее художественных пристрастиях!.. Спустя лишь полчаса после начала занятия Лиза успела поссориться с половиной кружковцев. У кого-то вырывала из рук квадратики, кого-то перебивала, когда они задавали вопросы, и вообще очень ревниво относилась к похвалам, которые я раздавала другим детям. Один раз даже ущипнула мальчишку за то, что я отметила его за особое усердие ромашкой (в качестве поощрения я использовала картонки с цветочками). Я старалась поощрить всех детей. Лизу похвалила за активность и быстроту, но ей этого оказалось мало. Она требовала особого внимания.
После занятия, возвращая Лизу отцу, я тихо, чтобы девочка не слышала, выразила удивление ее поведением. Кто занимается ее воспитанием? Матвей насупился и ответил, что девочка воспитывается в детском доме – специнтернате. А он иногда забирает ее в выходные, на несколько часов, погулять. Ситуация показалась мне странной, но расспрашивать я не стала. Однако Матвей, против моего ожидания, сам был готов продолжить общение. Так же тихо, чтобы не слышали окружающие, он спросил:
– Елена Павловна, вы не корите себя за тот момент в машине?
У меня дернулись губы, независимо от меня вспоминая, какой момент Матвей имел в виду. Я облизнула их и покачала головой.
– Значит, я могу пригласить вас сегодня вечером?
– Куда?
Я подумала, что уже почти полгода живу рядом с Мариинским театром и еще ни разу не сходила на балет. А здорово пойти именно туда! Но вряд ли Матвей осилит стоимость билетов в Мариинку. Его бедность кричала о себе: синяя, линялая от времени, в каких-то пятнах куртка на синтепоне, облупленные ботинки со сбитыми набок каблуками… Летом Матвей выглядел приличнее, но добротной теплой одежды у него не было. Наверно, форменный костюм, выданный ему нормалистами, был его лучшим нарядом.
– Ко мне домой, – выдал Матвей.
Я насторожилась. Пусть не в Мариинку, но хотя бы на эстрадный концерт пригласил. Он же любит романсы, народные песни – на такие выступления билеты не очень дороги. Но с другой стороны, мы с ним взрослые люди, что нам по концертам бегать? Живем в одном доме, почему бы не зайти…
– В каком часу? У вас торжество намечается?
– Нет. Так просто, посмотрите, как я живу. – Девочка уже тянула его за руку, заставляя идти. – Приходите к восьми, я Лизу в интернат отвезу и буду к этому времени дома.
Затем подошли другие родители и оттеснили Матвея от меня.
Поскольку торжеств у Матвея не намечалось, я оделась буднично – в бежевый брючный костюм и джемпер с цветными, неопределенной формы разводами. Подобрала в тон свое вынужденное украшение – розовый ошейник. И, что делала нечасто, пару раз коснулась себя пробкой духов. Оставив Ренату одну перед экраном телевизора, я спустилась на этаж и позвонила в дверь к соседу.
Открыла мне сухопарая старушка. Я в растерянности произнесла:
– Здравствуйте. Матвей Николаевич дома?
– Последняя дверь по коридору. На будущее: к Сомову, извольте, два звонка.
Меня покоробило ее «извольте». Явное пренебрежение сквозило в нем. Я виновато развела руками: на двери таблички не заметила. Может, я была невнимательна, давно не посещала коммунальные квартиры. Старушка не стала мне выговаривать. Лишь махнула рукой в конец длинного, как кишка, коридора и буркнула: «В тупике».
Я постучала в последнюю дверь и приоткрыла ее. Матвей шагнул мне навстречу и учтиво поклонился. Я пожаловалась, что получила от его соседки втык, да еще в такой непривычной форме. Матвей рассмеялся:
– Леночка, вы не так поняли нашу Петровну. Она сказала не «извольте», а Извольский! Сомов-Извольский – моя фамилия.
– Такая длинная? – удивилась я. Общаясь с Матвеем несколько месяцев, я ни разу не поинтересовалась его фамилией.
– Бабушка настояла, что поделаешь.
В комнате по обыкновению звучала громкая музыка – источником ее был громоздкий старый радиоприемник, едва ли не ламповый. Видимо, из-за нее Матвей и не услышал моего звонка. Усадив меня на единственный стул (кроме него я заметила еще два табурета), Матвей приблизился к приемнику и стал вертеть колесико настройки:
– Сейчас мы найдем что-нибудь поинтереснее. Вот это нравится?
Зазвучал романс Даргомыжского. Матвей, как-то странно вывернув голову, слушал музыку, чуть покачиваясь ей в такт.
– Да, мне нравится, но нельзя ли уменьшить звук?
– Извините, Леночка. – Матвей ослабил громкость и, оправдываясь, произнес: – Я туговат на ухо – память об армейской службе.
– Контузия?
– Что-то вроде этого.
Пока Матвей настраивал радиоволну, я осматривала комнату. Не грязная. И потолок светлый, и обои не рваные… Но общий вид какой-то запущенности окутывал ее, несмотря на старание хозяина прибраться к приходу гостьи. На табуретке лежало несколько книг, а на подоконнике в беспорядке валялись потрепанные толстые тетради и какие-то альбомы. На пол лучше было вообще не смотреть. Нет, он был чистый. Но там и тут – под диваном, тумбочкой, табуретками – были подпихнуты какие-то банки, коробки, веревочки, инструменты и разномастная обувь. Я поняла, что Матвей относится к тем, кто ничего не может выбросить. И не сразу я заметила в углу, за шкафом, средних размеров иконку Богоматери и потухшую лампадку, висящую перед ней. Определенно, Матвей – верующий. Это раскрывало его для меня с новой стороны.
Я с любопытством ожидала, как он поведет себя дальше.
На столе уже была приготовлена нехитрая закуска в виде нарезанной ветчины, сыра и соленых огурчиков. Рядом стояла заботливо открытая бутылка вина и графинчик с водкой. Матвей налил мне вина в изящную хрустальную рюмку на высокой ножке, бог весть как она затесалась в этот простенький быт, а себе в маленький граненый стаканчик – водки. Затем скороговоркой пробормотал про себя несколько слов, едва заметным движением кисти перекрестился и опрокинул стаканчик в рот. Меня немного удивила эта поспешность, но я ничего не сказала Матвею. Не торопясь выпила вино. Очередная песня зазвучала для меня чуть приглушеннее, а в груди поднялась волна теплого блаженства. Я поняла, что вино слишком крепкое. Матвей разлил По новой, но я отставила рюмку:
– Больше пить не буду.
– Ну а я, прошу прощения, еще стопарик пропущу!
Он выпил, чуть разрумянился и стал подпевать звучащей из приемника песне. Матвей смотрел на меня так, будто намекал на тайну, заведомо известную и мне. Но что могло связывать Нас? Наши жизни разнились как день и ночь. Я пользовалась мобильником, сидюшником, компьютером. Квартира моя обставлена европейской мебелью. А Матвей слушал допотопный приемник, сидел на табуретках сталинского времени, и вообще, весь аскетический быт квартиры обращал память к послевоенным годам, знакомым мне разве что по кино. Но ведь что-то должно быть у нас общее, раз я оказалась в этой квартире?
Мы немного поковырялись в закусках, хотя есть не хотелось обоим. От Матвея веяло каким-то покоем и безмятежностью. В наш век сплошных гонок и гонщиков он выглядел ленивым телезрителем – видит все и ни в чем не принимает участия.
– Может, пересядем на диван? – предложил Матвей.
Диван тоже не был вполне диваном. Это была самодельная тахта, пружинный матрас на ножках, служивший хозяину кроватью. Из-под ветхого пикейного покрывала выглядывало неряшливо заправленное одеяло в цветном пододеяльнике. Как-то неудобно было пересаживаться на такой диван. Поняв, что я не готова откликнуться на его предложение, Матвей придвинулся ко мне на своем табурете.
– Матвей, вы не хотите рассказать о дочке? Почему она живет в детдоме?
– Тут, Леночка, долгая история. – Матвей закурил и чуть отодвинулся от меня, выпуская дым. – Понимаешь, вообще-то она мне – не дочка. Но Надя, мать ее, в местах не столь отдаленных обитает.
Матвей невзначай перешел на «ты», я тоже перестала церемониться.
– А кем она тебе приходится? Жена?
– Была невенчаная подруга. Незадолго до встречи с Надей жена выставила меня из дома. Я тогда в больнице лежал, она замок сменила и сказала, чтобы я не смел возвращаться к ней. Я не знал, что делать. Эту комнатку, она мне от бабушки досталась, я сдавал, а другого жилья, как и денег, у меня не было. Я Наде пожаловался, она сестричкой в больнице работала, что жена меня выставила, и она предложила пожить у нее. А Лизонька у нее уже была. Я и застрял там, прожил в Надином доме, пока с ней эта петрушка не приключилась.

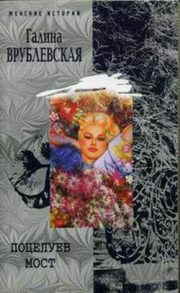
"Поцелуев мост" отзывы
Отзывы читателей о книге "Поцелуев мост". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Поцелуев мост" друзьям в соцсетях.