Чем подробно пересказывать, лучше сразу перейти к последней фразе. Колин Маккалоу уверяет, что, приступая к очередной книге, может ничего не знать, но последнюю фразу знает твердо. Тем более что в данном случае с этой фразы все и началось: ее Колин услышала от женщины, которая привела на прием умственно отсталого юношу:
– Это не сын, это мой муж.
Первым романом Колин рассказала себе не только о том, чего у нее пока нет и чего она хотела бы и рассчитывает добиться – она вспомнила и о том, чего у нее нет и, вероятно, никогда не будет. Неожиданно для автора рядом с темой профессионализма и независимости проступила иная, личная и болезненная тема: женского одиночества, страха перед жизнью, безнадежно упущенных лет. Героине «Тима» ниспослано чудо, и она сумела это чудо удержать. В книге-то оно так, но разве такое может случиться с автором? Колин, человек трезвый, на чудеса не рассчитывала, в особенности на внезапный дар любви. В этом смысле она давно поставила на себе крест. И чтобы понять, отчего же ей не полагается любви, она взялась за вторую книгу, за семейную историю в трех поколениях. По возрасту сама Колин попадает в младшее поколение, она – дочь Мэгги, а не сама Мэгги, хотя у читателя может сложиться иное впечатление, как потому, что Мэгги находится в средоточии сюжета, так и потому, что Мэгги написана с интересом и сочувствием. Дочка странная, как бы с природным изъяном – холодностью, неумением любить родителей, собственнической привязанностью к брату, страхом перед мужской любовью. Такой Колин написала себя, хотя, вероятно, уже тогда понимала, что причина скорее в матери, чем в ней самой. Она взяла на себя ответственность за свой склад характера и свои отношения с жизнью – и это спасло ее, когда жизнь внезапно повернулась к писательнице благоприятной, пугающе изобильной стороной.
«Тим» принес ей пятьдесят тысяч долларов, сумма для начинающего автора даже по современным представлениям весьма приличная. «Поющие в терновнике» вышли втрое длиннее, и Колин рассчитывала на сто пятьдесят тысяч и покупку квартиры или дома. Когда же только в Америке права были приобретены почти за два миллиона, всю концепцию постепенного благоразумного накопления пришлось пересматривать.
Маккалоу разом получила ту сумму, которую могла бы собрать разве что к пенсии, неустанно выпуская книгу за книгой и деньги, по примеру той своей героини, вкладывая в акции. В самом начале пути цель уже была достигнута. Можно сразу выйти на пенсию. Можно никогда больше не писать для заработка, если и писать – так только для удовольствия. Она именно так и поступила. С сорока лет Колин Маккалоу сделалась профессиональной писательницей – и вместе с тем антипро-фессиональной, ибо она решительно отвергала и продолжает вот уже тридцать семь лет отвергать грамотный коммерческий совет: «Поющих в терновнике-2» не будет, наотрез заявила она. У нее, оказывается, со школьных лет была мечта написать как минимум по книге в каждом из любимых читателями жанров. И она осуществила эту мечту, вместо очередной австралийской семейной саги сочинив семь томов исторических романов (попутно удостоилась докторской степени по истории), детективный сериал, исторические любовные романы, разнузданную «Непристойную страсть», фантастику-антиутопию, биографию современника, биографию одного из ранних поселенцев Австралии, поваренную книгу. К семейной саге она вернулась только что, в 2013 году, главным образом потому, что ее пленило слово Bittersweet, сладостно-горький, и показалась забавным написать историю четырех сестер, двух близнечных пар, которые вступают в жизнь между двумя войнами. Вновь, как и в «Поющих в терновнике», в «Октябрьском коне», в «Песни о Трое», Колин Маккалоу отталкивается от слова и связанного с ним образа – птицы, чье сердце пронзено шипом; лучшего коня, приносимого в жертву во благо города и мира; прекрасного юноши, чья красота полнее всего раскрывается в наготе и смерти; горько-сладостной текстуры жизни.
Ни один писатель не свободен от некоей сквозной темы. Он может менять сюжеты и жанры, писать ради славы или ради денег, вкривь и вкось судить о природе своего дарования, но нечто главное прорвется и утвердится. В столь разных по замыслу и назначению книгах Колин Маккалоу упорно проступает эпическое начало. Оно не только в размахе, не только в потребности добраться до корней и сути, запечатлеть исторический момент выхода Австралии из провинциальной изоляции на мировую арену, превращения Рима из замкнутого на себе города в центр ойкумены, появления у греков геополитического мышления. Эпическое начало – в соединении общечеловеческого и конкретного, исторического и домашнего. Человек по своему нелепому устройству отталкивается и от чересчур знакомого (зачем мне опять про любовь, отвагу, верность дружбы, страх смерти?) и от «чужого» (далекая Австралия, Древний Рим, мифическая Троя – мне есть до них дело?). И чтобы втянуться, опять же требуется нечто узнаваемое (любовь, дружба, миф) и обещание новизны (неведомый европейцам и американцам континент, например). Как соединить это, как задать верную меру? Эпосом с гомеровских времен найдено единственное средство: сравнение.
И чем чудовищнее и необычнее ситуация, тем более повседневное и прозаичное требуется сравнение. Жизнь Одиссея висит на волоске между двумя морскими чудищами, Сциллой и Харибдой, и Гомер считает уместным обозначить тот час, когда с грохотом извергается вода и корабль, потерявший часть гребцов, вырывается все же на волю, как ту самую пору дня, когда усталый пахарь присаживается на меже скушать свой бутерброд с сыром. Где тот пахарь, где суша, и плуг, и хлеб, и твердая пища? Ничего, кроме бушующей бездны вокруг, и слушатели, обступившие певца, едва ли видят что-либо, кроме этой бездны – и вдруг, спохватившись, обводят друг друга взглядом и вспоминают плуг, запряжку быков, хлеб с сыром, свою повседневность, которая только что была воспета в сравнении, в слиянии с морем и мифом.
Сравнение работает в обе стороны. Будничную жизнь прославляет, книжную приближает к реальной. И возвышает, и соизмеряет с человеком. Этот странный образ птицы, которая поет, истекая кровью из пронзенного шипом сердца – откуда он? Кто-то помнит его из сказок Андерсена, кто-то из восточной поэзии, Колин Маккалоу подает его как родной, австралийский.
Таких образов в романе очень немного. Собственно, эта птица в терновнике да пепел розы – вот главные. Их и не должно быть много, это ведь не украшение, а символ – точка схождения земного и небесного, тот миг, в котором осмысляется жизнь. И насильно символы не расставишь, эпос умышленно не сочинишь – символ возникает из равенства жизни и слова, писателя и героя. Эпос – высшая свобода, какая только возможна для человеческого творения: автор утрачивает власть над героями.
В конце саги освобождение наступило для всех персонажей Маккалоу, даже для ее альтер эго. Дочь сумела принять себя такой, как есть. Смерть единственного брата из бессмыслицы стала эпосом. Примирение с матерью состоялось – но не путем поглощения. Дочь не вернется в имение, у нее есть, пусть запоздало, муж, есть любимое дело.
Герои свободны – неужели же над автором книга надсмеется? Ведь с символичностью и значительностью жизни можно переборщить, положиться на знаки и стать их рабом. Не расставила ли себе Колин слишком четкие знаки – не расставила ли себе ту самую ловушку, из которой бежала? А теперь что же? Возвращаться к матери, жить, отбывая дочерний долг?
Скорее всего, именно этого от нее и ждали: работать дальше ей не было никакой надобности, вернуться, приобрести землю, построить дом, покоить близких – чем не хеппи-энд. И впервые в жизни Колин Маккалоу ощутила страх. Для одинокой самостоятельной женщины, построившей жизнь вокруг необходимости зарабатывать на жизнь и обеспечить себе такую же самодостаточность в старости, что может быть страшнее, чем преждевременно сбывшаяся мечта? Нет необходимости думать о будущем. А значит, следует жить настоящим. Но жить настоящим она не умела и не могла. До такой степени, что пугала себя и вероятностью вложить деньги в дутые бумаги, пасть жертвой мошенников и того пуще: выскочить замуж за какого-нибудь альфонса. Она ведь совсем не искушена в жизни, не влюблялась, не флиртовала. Она поверит первому же ласковому слову, она обманется в собственных чувствах и вместо независимости получит худший из всех видов несвободы – построенный на лжи и самообмане брак. Ей стало так страшно, что она готова была даже вернуться в Австралию. По крайней мере, на знакомую территорию.
Но хеппи-энд не в том, чтобы разбогатеть и вернуться в Австралию. То есть хеппи-энд, может быть, и в этом. Но мы же говорим не о романе с хеппи-эндом, а об эпосе, о мере, сравнении, выравнивании. Человек, написавший такую книгу, просто не мог, не смел бояться жизни. Если автор сумел дать свободу своей книге, то и книга должна освободить автора – вот единственная проверка подлинности, эпос ли это или так себе, искусственный механизм. Что-то произошло в душевном строе Колин Маккалоу – как и что, мы не знаем, отношения написанной книги с автором еще таинственнее, чем отношения автора с созидаемой книгой – и Колин стала целиком и полностью самой собой. Той, какой ее застанут корреспонденты и спустя тридцать, и спустя тридцать пять лет. Беспардонно курящей на крыльце австралийского ресторанчика: «есть свои преимущества в инвалидном кресле, не покатят же меня в отделение». Не страшащейся ни боли в спине, ни слепоты. Не желающей писать коммерческие продолжения, зато превратившей свою жизнь в продолжение собственных книг.
Делать в Америке и правда было нечего, но и возвращаться Колин не спешила – как вариант, подумала она, сгодился бы остров. Немноголюдный остров, достаточно близко от Австралии, чтобы мать можно было проведывать, и достаточно далеко, чтобы жить своей жизнью. Она отправилась посмотреть остров Норфолк – и осталась там жить.
Остров Норфолк в южной части Тихого океана англичане начали осваивать в конце XVIII века. Растили преимущественно лен и коноплю: Екатерина Великая отказала Англии в поставках из России, а владычица морей нуждалась в веревках. Трудились в основном каторжники, их завозили и на острова, не только в Австралию. В XIX веке каторжную тюрьму закрыли и эвакуировали на Норфолк большую часть жителей Питкэрна, потомков бунтовщиков в «Баунти».
Флетчер Кристиан, возглавивший мятеж на корабле, несмотря на свою молодость, был не только отважен и вспыльчив. Он оказался прекрасным вождем для своего малочисленного народа. Большинство матросов желало, конечно же, вернуться на Таити, к своим женщинам. Кристиан выполнил их желание, и его тоже ждала там любимая, но оставаться на Таити Кристиан считал безумием: очередной английский корабль их обнаружит, пришлют карательную экспедицию, и висеть им всем на реях. Часть экипажа все же осталась, понадеявшись отсидеться в джунглях, когда появится корабль – этих матросов постиг печальный конец. Прочие под началом Кристиана, вместе с туземными женщинами, а также и туземными мужчинами, возжаждавшими приключений, отправились на поиски необитаемой земли и в итоге зацепились за крошечный Питкэрн. Здесь им тоже пришлось нелегко: спустя несколько лет таитяне взбунтовались против белых, при подавлении этого мятежа Кристиан погиб и уцелело всего пятеро белых, которые без командира спились, перессорились, кто погиб в драке, кто утонул. Когда английский корабль спустя четверть века все же отыскал их, островом правил единственный уцелевший моряк по фамилии Адамс. Поскольку моряки брали себе по несколько жен, да еще порой и менялись женщинами, основной задачей патриарха было вести родословные книги и следить за тем, чтобы сводные братья и сестры не вступали друг с другом в брак.
И эта удивительная маленькая колония процветала. К ней присоединился присланный из Англии священник, какие-то до нее добрались жители соседних островов, но главным образом это были потомки бунтовщиков с «Баунти» и их таитянских жен. Когда число жителей перевалило за сотню, им стало не хватать пресной воды на их маленьком острове, и взять ее было неоткуда. Британское правительство попыталось решить проблему, переселив питкэрнцев на родину их бабушек, на Таити – оказалось, что для них невозможна жизнь в многолюдстве, они впадали в депрессию, подхватывали все местные инфекции, умирали. Тогда попробовали Норфолк – и там они прижились. С полсотни коренных жителей и поныне держатся за свой Питкэрн, однако на Норфолке питкэрнцы дали многочисленное потомство, из 2300 жителей их, по меньшей мере, тысяча. Из-за понятного однообразия фамилий и довольно скудного выбора имен (например, среди потомков Кристиана в каждом поколении непременно имеется Четверг Октябрь, в честь дня высадки на Питкэрн) в телефонном справочнике указываются также прозвища. Под влиянием питкэрнцев на Норфолке наряду с английским языком используется «питкэрнский» и чаще, чем «Боже, храни королеву», звучит гимн Питкэрна – стихи из 25-й главы Евангелия от Матфея:
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня… истинно говорю вам; так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

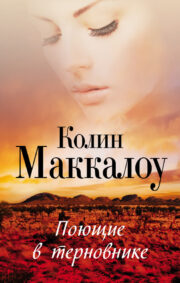
"Поющие в терновнике" отзывы
Отзывы читателей о книге "Поющие в терновнике". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Поющие в терновнике" друзьям в соцсетях.