Неужто Си-Измаил пытался превратить ее в одну из тех кукол, которые наполняют дома арабов и единственное назначение которых – рожать своему господину детей? Де Коломбель вспомнил: говорили, будто старый бен-Алуи взял в жены ирландку потому, что хотел иметь сына с высоко развитым интеллектом, но что она никогда не переступала порога его гарема после той ночи, когда он на руках перенес ее через этот порог и обрек на жизнь под покрывалом.
Враждебное чувство к Си-Измаилу шевельнулось в душе де Коломбеля. Нечто в этом роде он испытал мальчуганом, когда на его глазах один крестьянин подрезал крылья и выколол раскаленной иглой глаза жаворонку. Было что-то общее между жаворонком и девочкой Мабрукой.
Он был уверен, что Мабрука не уехала, что она где-то здесь, за обожженными солнцем глиняными стенами этого таинственного дома пустыни. Что за человек Си-Измаил? Что заставило его бросить богатую беспечную жизнь для того, чтобы стать полубогом в глазах суеверных погонщиков верблюдов и жителей далекого оазиса?
После завтрака Си-Измаил повез своих гостей осматривать новый артезианский колодец.
– Какая ирония судьбы, – говорил он дорогой, – французы рыли здесь землю упорно, забрались на огромную глубину и, потеряв надежду найти воду, прекратили работы. А затем явился араб, растративший почти все свое состояние на танцовщиц, купил за несколько сот франков клочок земли с заброшенным колодцем, пробуравил еще фута на три и наткнулся на воду.
ГЛАВА II
Прошло два дня. Си-Измаил покорил сердце Кассили, открыв ему доступ в свою богатую библиотеку, с книгами на арабском и персидском языках. Коломбель был предоставлен самому себе.
На второй день вечером он вышел пройтись на площадь; его нагнал молодой флейтист, который, как успели заметить французы, неотступно находился при их хозяине. Поравнявшись с де Коломбелем и невнятно пробормотав несколько слов, он всунул ему в руку сложенный листок бумаги.
Коломбель развернул его и прочел не совсем правильно написанную по-французски записку:
«Прошу вас, месье, прийти повидаться со мной. Милый месье Помпом, приходите, для меня это вопрос жизни и смерти. Рашид проводит вас к артезианскому колодцу, где я буду ждать вас около 9-и часов. Не надо говорить, что я писала вам, меня убили бы. Приходите, приходите, милый месье Помпом.
Мабрука».
Ему сжало горло. «Помпом» было прозвище, данное ему сестрой, когда они были малышами. Мабруке оно понравилось, и она скоро привыкла называть де Коломбеля этим прозвищем.
Он обернулся к юноше.
– Ты – Рашид?
– Да, сиди.
– Могу я доверять тебе?
Флейтист покраснел.
– Сиди… – начал он.
– Ты один из учеников «зауйи»?
– Да, сиди.
– Как же тебе удается сноситься с одной из жен марабу?
Мальчик выдержал его взгляд, не сморгнув, потом смело рассмеялся.
– Известно ли тебе, что я друг Си-Измаила?
– Любовь сильнее дружбы.
– Я не люблю.
– Зато я люблю, сиди! – воскликнул мальчик звенящим голосом.
Это было так неожиданно. Если Рашид любит Мабруку, почему он устраивает ей свидание с другим мужчиной?
– Ты любишь женщину – из дома марабу?
Мальчик вскинул голову.
– Я люблю марабу, люблю больше самого себя. Я учусь, чтобы служить ему впоследствии. Он мой учитель, мой отец.
– А… Мабрука?
– Женщина! Что такое женщина? Я хотел бы, чтобы она ушла, потому что она всегда подле него. Потому что он советуется с ней, потому что он нежен с ней. Он забывает, что она женщина. Он обращается с ней так, будто она сын его. Он научил ее многому такому, чего женщине вовсе незачем знать.
Де Коломбель не узнавал мальчика. Глаза его горели огнем фанатизма.
– Не сын ли ты Си-Измаила?
– У него нет сына, сиди. Но я мог бы быть его сыном. Никто не умеет так петь, так декламировать, как я. Он выделяет меня, он любит меня… но он учит и эту женщину…
В тоне его была горечь, за которой чувствовалась ребяческая зависть.
Все это выходило за пределы понимания де Коломбеля.
– Прекрасно. Жди меня на площади в половине девятого, ты проводишь меня к колодцу. Женщине передай, если тебе это удастся, что я исполню ее просьбу.
После обеда Кассили с Си-Измаилом занялись изучением редчайшего персидского манускрипта – одного из сокровищ библиотеки. Де Коломбель, сославшись на необходимость заняться делами, прошел к себе, положил в карман револьвер и никем не замеченный вышел из дома. Ночь была безлунная, но звезды светили ярко. Выйдя за ворота, де Коломбель остановился и тяжело перевел дух. Приключение не особенно радовало его: не хотелось быть втянутым в интригу с туземной женщиной, да еще с женщиной, принадлежавшей к семье влиятельного вождя секты, с которым французское правительство хотело поддерживать дружественные отношения. Но, с другой стороны, де Коломбель был по происхождению бретонец, и всякая романтика имела для него неотразимую прелесть. На площади из тени выступил Рашид.
Де Коломбель молча последовал за ним. Было душно. Подавленное настроение все больше овладевало им. Они шли узкой уличкой по направлению к западным воротам. Бедная кофейня, посещаемая лишь неграми да погонщиками верблюдов, бросала одинокое пятно света на мостовую. Там пели носовые крикливые голоса. Рашид остановился, прислушиваясь.
Де Коломбель терпеть не мог туземной музыки: он не улавливал в ней ни ритма, ни гармонии. Странная мелодия, под аккомпанемент глиняного барабана, раздражала его.
– Что это? – нетерпеливо спросил он.
– Сиди, это песня о джиннах – джинны, духи зла, не любят ее. Сочинил ее святой марабу, сын бен-Азуса. Хорошо, что мы слышим ее, это к счастью…
Но в эту минуту в кофейне раздался крик, музыка оборвалась. Рашид бросился в кофейню.
Немного погодя, он вышел очень мрачный, и они снова пустились в путь. Пройдя несколько шагов, Рашид остановился и зашептал.
– Сиди, там в кофейне… барабан упал наземь и треснул. Это плохой знак. Лучше нам повернуть обратно.
Де Коломбель рассмеялся:
– Нет, мы должны идти.
Они вскоре миновали кладбище. Уже слышно было журчание воды в желобе и отводной канаве. А вот и колодец, и в тени вышки две женские фигуры, с ног до головы закутанные в черные покрывала, – видны одни глаза.
Одна из женщин – та, что была потоньше, черная тень с звенящими браслетами, – бросилась де Коломбелю навстречу.
– Помпом! Ты! – воскликнула она. Молодой человек схватил протянутые к нему руки; его сразу поразило, какие они хрупкие и маленькие, чуть побольше детских ручонок. – Ты рад, что видишь меня? – спросила она на ломаном французском языке.
– Конечно, рад. Мы ведь всегда были друзьями! – не задумываясь, ответил он, лаская ее руки.
– Значит, ты поможешь мне, – быстро заговорила она, понижая голос. – Я знала, что поможешь, Помпом, знала!..
– Но что такое? В чем дело? Я не понимаю.
Она отняла у него руки, стиснула их так, что серебряные запястья тяжело ударились одно о другое и зазвенели, как кандалы, и продолжала торопливо:
– Рашид не понимает по-французски, можно говорить смело. Помпом, ты должен забрать меня с собой в Алжир. Вот зачем я позвала тебя. Я не могу оставаться здесь. Я не в силах выносить эту жизнь. Не хочу выносить.
Большие, полные слез, молящие глаза не отрываясь смотрели на него. При совсем еще детских интонациях, голос ее звучал не по возрасту низко, от слез, может быть.
– Но, дитя, чем же я могу помочь? – спросил он, тронутый.
– Увези меня в Алжир! – страстно упрашивала она.
– Послушай, Мабрука. Ведь мне опасно даже встречаться с тобой. И для тебя опасно.
– Ты боишься за самого себя. Ты о себе одном думаешь.
– Об обоих.
– Значит, не любишь! – воскликнула она. – Я этого боялась. А я-то радовалась твоему приезду! Ты был всегда так добр ко мне. Я все еще ношу ту брошку в виде птички, что ты подарил мне. Я так верила в то, что ты освободишь меня. Так надеялась, когда услыхала, что двое Руми прибыли в Силгу. Я и Неджма – она сейчас здесь со мной – смотрели в окно, из которого виден двор. И я увидала тебя, когда ты проходил, услыхала твой голос. Я простояла ради этого два часа. Но что значат два часа, когда день нечем наполнить!
Он инстинктивно притянул ее к себе и обнял за плечи.
Она оттолкнула его.
– Ты молчишь?
– Что мне сказать? Разве Си-Измаил… – Он колебался.
– Уж я просила, просила его. Умоляла дать мне повидать тебя и того, другого, чтобы я могла поговорить, узнать о том, что делается на белом свете. Не захотел. Тогда я пришла в ярость, сказала, что убью себя, а он все-таки отказал, и я схватила нож и вонзила его в вену на руке. Но он только засмеялся, перевязал мне руку, заговорил кровь и ушел. С тех пор я его не видала.
– Бедняжка! – Он попробовал снова приласкать ее, но она ударила его и глубже натянула покрывало на лицо.
– Дикий котенок! – крикнул он, уязвленный.
Она расхохоталась и ответила на своем родном языке:
– Вы уже раз как-то называли меня диким котенком. Помните? Когда я укусила вас в руку. До крови.
Он отвернул рукав и протянул ей руку. Она нагнулась.
– Слишком темно. – Она провела по его руке кончиком нежного, окрашенного охрой пальчика. – Шрама нет. Но мне все-таки жаль, что я сделала вам больно, Помпом… – Нежные слова, томный голос, аромат, исходивший от нее, странно волновали его.
Он попытался взять себя в руки.
– Поговорим серьезно. Вы еще ребенок, Мабрука…
– Ребенок! Вовсе нет. Я взрослая женщина. У Шерифы есть годовалый малютка, а я старше ее. У Галимы, двоюродной сестры марабу, есть молодой муж, который любит ее, как любит небо молодой месяц, и она уже родила ему двоих сыновей, а она на год моложе меня. Все они довольны, потому что не знают другой жизни.
– А вы?
– Могу ли я быть довольна? Разве я похожа на них? Разве я не жила, как живут ваши женщины? Я тоскую. Я – как несорванная роза, которая видит, что лето приходит к концу.
– Но вы ведь замужем, Мабрука?
В голосе ее послышалась обида:
– Разве Измаил годится в возлюбленные? Не могу сказать, как он заставляет меня страдать. Если бы он бил меня, как бьют другие мужья своих жен, я не жаловалась бы: сладко чувствовать на себе силу мужчины. Но я – как человек, который привык к солнцу и которого заточили в темный погреб. Си-Измаил рад бы запретить мне дышать воздухом, потому что воздух свободен. Сколько хитрости надо было употребить, чтобы прийти сюда! Он и на крышу дома совсем почти не пускает меня. Я провожу все дни, ссорясь с женщинами в этом глиняном дворце. Мне не разрешается даже ходить в мечеть или к его сестрам. Было время, он мог бы убить меня, а я целовала бы его руки. Но теперь ничего, кроме горечи, не осталось. Он сулит мне… что? – не знаю, говорит со мной о вещах, до которых мне нет никакого дела…
Она умолкла, и из темноты донеслось к ним звонкое кваканье лягушек в пальмовом саду и отдаленный крик петуха.
Рашид и Неджма – белое и черное привидения – сидели в расстоянии двадцати футов вверх по течению потока.
– Но чем я могу помочь вам, Мабрука? – начинал сдаваться де Коломбель. – Что вы найдете, уйдя отсюда?
– Что я найду здесь? Состарюсь, и только. Стала ли бы я просить вас, если бы был другой исход? – В голосе ее было отчаяние. – Разве у меня есть друзья, которым я могла бы довериться? Только вы и ваша сестра, и полковник, который уехал куда-то далеко, и леди, что жила высоко на холме, а как ее звали – я забыла.
Ему не хотелось даже самому себе признаться в том, как сильно волновала его эта дикая птичка, которая, билась о прутья своей клетки. Вся жизнь ее – для него тайна, такая же непроницаемая, как непроницаемо покрывало, которым она закутана с ног до головы.
– Неудивительно, что я несчастна, – с раздражением говорила она. – Во мне течет кровь женщины, которая не знала покрывала. Многие, даже из неверных, слыхали о моей матери, хотя для них она никогда не плясала. Она была знаменита, моя мать, и побывала во многих городах, во многих местах. Плясала она за очень большие деньги, а от богатых людей полными пригоршнями получала драгоценности. Мне рассказывала Неджма. Она знает меня с того самого времени, как мать отдала меня Измаилу. Вы слыхали, что привезли меня из Триполи. Моя мать плясала там на свадьбе и получила много золота. Был там и Измаил. Когда моя мать услыхала, что он сын бен-Алуи, она подошла к нему и предложила отдать ему, ради отца его, все, чего бы он ни пожелал. Потому что раньше как-то бен-Алуи спас ее, изгнав из нее злых духов. Но это длинная история. Так вот, она опустилась перед Измаилом на колени и поцеловала край его бурнуса. Я тоже была там, но помню только, что было много огней и что я ела много сластей и тоже плясала. А когда мать моя склонилась перед Измаилом, я потихоньку стащила его стакан с дуплистым сиропом. Заметив это, он рассмеялся и сказал, что хочет получить от моей матери – меня. Мать моя опечалилась, потому что я была у нее одна. Но она все же отдала меня; она знала, что надо исполнять желания марабу – это приносит счастье.

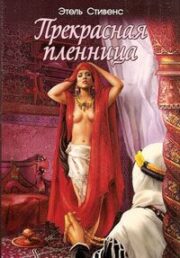
"Прекрасная пленница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прекрасная пленница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прекрасная пленница" друзьям в соцсетях.