Этот разговор немного сбил его с толку, а Нина, похоже, не придала ему особого значения.
— Смотри! — улыбнулась она, кивнув на чету весьма пожилых, но ярко одетых иностранцев. — Старуха ведь, а нарядилась, как девочка: в клешах, футболке… — Она сказала это так живо и непосредственно, что иностранцы обернулись, и старушка поджала губы, а ее сухощавый седовласый спутник откровенно загляделся на Нину и, пройдя несколько шагов, оглянулся еще.
К Большому они подошли за час до спектакля. Сергей посмотрел, что сегодня идет, и пал духом. Вечер одноактных балетов: «Кармен», «Шопениана»… Тут и Сема бессилен — пропащее дело. На широких ступенях подъезда, на тротуаре перед ним уже толпились жаждущие лишнего билетика, но лица у них были такие унылые, что становилось ясно: никто не надеялся, а не расходились они только потому, что не было сил преодолеть притяжение театра. Подъезжали интуристские «Икарусы» с иностранцами, стекались парами и всходили по ступеням счастливые соотечественники с билетами… Вечер был ясный и тихий. Глухой шум города и гомон толпы у подъезда как будто смягчались этим тихим предзакатным светом, в них уже не было дневной жесткости, сквозь них будто незримо пробивались скрипки настраиваемого там в театре оркестра.
Сема возник как всегда неожиданно, сбоку, словно из-под земли. Напористый и верткий, с черными, чуть навыкате глазами, со своим большим, язвительного склада ртом, он выделялся в любой компания, но почему-то легко растворялся на улице, в толпе. Торопливо обняв и чмокнув Сергея, он тут же обернулся к Нине и застыл с восхищенным, почти раболепным взором.
— Меня зовут Сема, — сообщил он после некой торжественной паузы.
— Нина, — сказала она, подавая ему руку лодочкой. Сема взял ее руку и, почтительно склонившись, поцеловал. Нина фыркнула, удивленная таким обращением.
— Что, прокол, старик? — спросил Сергей о билетах, грустно, но с робкой надеждой.
Сема посмотрел на него долгим укоряющим взглядом.
— У меня проколов не бывает, гражданин, — сказал он тоном милиционера и жестом фокусника вынул из кармана два билета.
— Ну, ты гений! — обрадовался Сергей. — Считай, что Бальмонт твой.
— За такую услугу, парень, — сказал тот, — я бы содрал с тебя еще и Ахматову, но ради вас, — обернулся он к Нине, — проявляю глупое бескорыстие.
Они поднялись по ступеням, и Сема пошел проводить их до входа. А когда они с Сергеем чуть поотстали, пропустив Нину вперед, тот выразительно показав глазами в ее сторону, поднял большой палец. «Но простовата», — беззвучно шепнул он на ухо.
— Катись к своей Лялечке! — одними губами ответил Сергей.
Смешавшись в вестибюле с нарядной толпой, они начали неспешное восхождение по ступеням беломраморной лестницы. Нина взяла его под руку, будто боясь потеряться в этой оживленной, сдержанно гудящей толпе, и он с какой-то особой радостью, точно с ним это случилось впервые, ощутил доверчивую женскую ладонь на своей руке. В больших зеркалах вдоль лестницы, в той нарядной, отражавшейся в них толпе они выделялись, они были заметной парой, и он с удовольствием отметил это про себя. Наконец-то он растопил этот лед: Нина восхищалась и зеркалами, и люстрами, и шелковыми портьерами на окнах, иногда останавливалась, наивно запрокидывая голову, чтобы получше рассмотреть бронзовое кружево светильников, расписной орнамент на потолке… В буфете Сергей взял шампанского, и на этот раз ее не пришлось уговаривать — она выпила свой бокал и похвалила: «Вот это другое дело! Не то что твой вонючий коньяк».
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Нет, я не стану описывать то, что происходило в тот вечер на сцене. Я знаю возможности прозы, но танец и музыка недоступны ей! Где найти мне слова, в каком порядке расставить их, чтобы передать чарующе дерзкий танец Плисецкой-Кармен, ее полет, ее батман, и смерч ее фуэте, и откровения пируэтов?.. В тот вечер на сцене игралась вечная мистерия: поединок женщины, свободной, как птица, но взыскующей покорности, плена, и мужчины, плененного ею, который, любя, способен убить, но так и не смог покорить…
Впервые в жизни Нина видела настоящий балет — музыка, танец совершенно захватили ее, и Сергею приятно было сознавать, что это он доставил ей такое удовольствие. Когда очередной шквал аплодисментов сменял музыку и артисты выходили на авансцену кланяться, она некоторое время так и оставалась неподвижной, уронив руки на алый бархат ложи, а потом оборачивалась к нему оживленно сияющим лицом и смотрела на него с такой нежной признательностью, что у него прерывалось дыхание. Уж если хмурая и резкая она ему нравилась, то за такую он бросился бы в огонь.
Вернувшись из театра, они поужинали на кухне и в какой-то неловкости остались сидеть за столом. За окном было темно, пора было спать. Сергей включил транзистор, повертел ручку настройки. «О любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну…» — без голоса, но душевно пел по радио Марк Бернес. На другой волне диктор зачитывал отчет о пленуме ЦК КПСС, решавшем хозяйственные вопросы.
— Не надо, — сказала Нина, и он выключил приемник.
— Тебе понравился спектакль? — спросил он.
— Да, — кивнула она. — Очень!.. — и добавила: — Жалко Хозе…
— Он убил Кармен, а ты его пожалела, — улыбнулся Сергей.
— Но ведь она его довела… — и, подумав, сказала. — Тогда уж убил бы лучше тореадора. А она поревела бы день-другой, и позабыла….
Сергей усмехнулся, но не сказал ничего. Они посидели в молчанье еще. Потом Нина решительно поднялась, повязала фартук и принялась мыть посуду. Сергей тоже встал. «Я постелю», — сказал он уходя.
Когда Нина вошла в комнату, свет был погашен, слабо горел только торшер у стены, а в полумраке белела чистыми простынями застеленная тахта. В изголовье, тесно соприкасаясь, лежали две подушки.
— А ты где ляжешь? — спросила она.
— Вот здесь с краешку, — показал он на тахту.
— Еще чего!.. — грозно сказала она. — И не выдумывай!
— Но у меня нет раскладушки…
— Ложись на полу!
— На полу холодно…
— Перезимуешь!..
Она решительно взяла крайнюю подушку и положила ее в кресло на другом конце комнаты.
— Ладно, — покорно сказал Сергей. — Укладывайся. Я как-нибудь устроюсь.
Он покурил на балконе, а когда вернулся, Нина лежала, натянув одеяло до подбородка и прикрыв глаза. Он тихо разделся, поколебавшись, снял и майку, обнажив свой загорелый, с сухими четкими мышцами торс теннисиста. Потом подошел и сел с краюшку к ней на тахту.
Нина открыла глаза.
— Во, явился, Аполлон Бельведерский! — насмешливо сказала она.
— Нина, не будь жестокой, — проникновенно попросил он. — Я окоченею на полу, и завтра ты найдешь мой хладный труп. У меня даже постелить нечего… Можно, я лягу с краю, но под другим одеялом? Я буду паинькой…
— Ну, что с тобой сделаешь… — вздохнула она, отодвигаясь к самой стенке и подтыкая под себя одеяло со всех сторон. — Но чтобы без этих пошлых глупостей!
С лихорадочно бьющимся сердцем он взял свою подушку, еще одно одеяло, лег с краюшку и погасил торшер. Но не выдержал и минуты, обнял ее вместе с одеялом и начал целовать в шею, губы, глаза.
— Остань! Отвяжись!.. — ругалась она, пытаясь вырваться.
— Ну почему?.. — бормотал он, уже задыхаясь. — Чего ты боишься?..
— Ничего я не боюсь, — сказала она довольно спокойно. — Просто противно так сразу. — Ни с того ни с сего.
— Я тебе противен? Да?..
— Да, нет, не противен, — сказала она просто, — но как-то так…
— Но ведь это же приключение, — сказал он. — Так пусть будет все.
— Приключение!.. — с отвращением сказала она. — Слово какое-то гадкое.
Он отпустил ее, оставил только руку на плече. Он пересилил себя, давая ей немного привыкнуть. Потом заговорил, как-то бессвязно, но искренне, а может, потому и бессвязно, что искренне.
— Ты, наверное, думаешь, что для меня это так… Просто приключение?.. Нет, я, как только увидел тебя, сразу потерялся. Ты какая-то особенная. Я тогда еще на вокзале подумал: «Вот женщина, о которой я всегда мечтал». Я тогда смеялся, шутил, а сам очень боялся, что ты скажешь, спасибо, что поднес чемодан, а потом уйдешь, и мы больше не встретимся. И в прихожей проклинал себя за обман, — боялся, что не простишь… И в театре я смотрел на тебя, как мальчишка… Знаешь, для меня все это, как сон. Неужели на самом деле? Неужели ты мне не снишься?..
Он говорил что-то бессвязное, мучаясь, что глупо выходит, — обычно у него лучше получалось, может, потому, что обычно он меньше волновался. Нина слушала его молча, но слушала — он это чувствовал. А когда он робко повторил попытку, к радости своей, не встретил прежнего решительного отпора.
…В конце концов она уступила ему. Именно уступила, без трепета, но с мягкой, нежной покорностью, какой он не ожидал при ее довольно-таки решительном характере. И эта неожиданная покорная уступчивость потрясла его больше, чем самые пылкие ласки других. Ничего подобного он никогда не испытывал, хотя многое уже в постели познал… И потому, когда, еще держа ее в объятьях, немного отдышался и пришел в себя, то даже не уверен был, что все это случилось с ним не во сне, что эта удивительная, так нежданно доставшаяся ему женщина не снится ему.
— Чудные дела твои, господи!.. — сказала вдруг Нина с каким-то недоумением. — Утром познакомились — и на тебе… — Она приподнялась на локте и в лунном полусвете посмотрела на него, словно пытаясь разглядеть, что за человек перед ней. Потом мягко провела ладонью по щеке и положила голову ему на плечо. И он понял, теперь уже наверняка, что лучшей женщины у него точно не было.
Но прежде чем уснуть, она опять отодвинулась к стенке, завернулась в свое одеяло, подоткнула со всех сторон, опять территориально отделившись от него… Она быстро уснула, а он долго еще не спал, лежал рядом, вдыхая нежный запах ее волос, сладко терзаясь новым, еще не утоленным желанием, но не решаясь ее разбудить. Казалось, целую вечность он мог бы вот так не спать, лежа рядом, счастливый, хоть и неудовлетворенный, лежать рядом с ней и оберегать ее сон.
4
Что представлял из себя Сергей? Ему в ту пору едва перевалило за тридцать, и он работал в престижном московском НИИ — неважно в каком. Занимался он прикладной математикой. Всего в своей жизни он добился сам: того, что его оставили после института в Москве, того, что у него была интересная, хорошо оплачиваемая работа; сам «пробил» и построил себе хорошую кооперативную квартиру в Черемушках, сам обставил ее, как мы уже видели, удобно и со вкусом.
Он умел «пахать», хотя нельзя сказать, чтобы очень любил свою работу. Конечно, интересней было бы заниматься чистой наукой, но там было мало шансов на успех, а ему пора было уже прочно устраиваться в жизни. В работе ему нравилась изобретательность и сила своего ума. Он не понимал тех «шизиков», которые брались за неразрешимые задачи с ничтожными шансами на успех. Но не любил и легких задач. Он любил задачи трудные, но, в принципе, разрешимые. Тогда он с азартом набрасывался на работу, заранее чувствуя, что хоть задача сложна и потребует много сил и времени, но все-таки будет им решена. К тому же решение именно таких задач приветствовало начальство, именно это приносило успех. Он чувствовал себя в той поре профессиональной зрелости, когда любые, даже очень трудные задачи по плечу, когда то, что другим, еще не достигшим этого уровня или уже постаревшим, трудно, им будет сделано легко. Он любил чувствовать свою компетентность, любил консультировать. Это было престижно, выгодно и не слишком обременительно. Временами он чувствовал, что наступила пора для какой-то другой, куда более сложной работы, но пока что не спешил за нее приниматься. Такая работа тяжела, она поработит на многие годы, но совсем не обещает стопроцентного успеха. А без гарантии он уже работать не мог, хотя и не желал себе в этом признаться.
К тому же хотелось немного отдохнуть, немного пожить в свое удовольствие. У него было нелегкое детство, без отца, с матерью, которая мало зарабатывала и не умела в жизни устроиться; ему было нелегко в студенческие годы, ему все время чего-то не хватало. И вот теперь, когда, к тридцати трем годам, он сумел добиться всего: хорошей работы, достатка, комфорта, хотелось расслабиться и немного «покайфовать». Не только в профессиональном отношении, но и физически он чувствовал себя превосходно — два раза в неделю занимался теннисом и, хотя давно не прогрессировал в спорте, уверенно держался на уровне первого разряда. У него были друзья (одного из них, Сему, мы уже видели), и среди них не было подонков, хотя, он сознавал это, не было и по-настоящему интересных людей: нормальные, неглупые и вполне современные парни — чего же еще?.. В последнее время, как и многие из московской интеллигенции, он собирал библиотеку (в основном, поэзию Серебряного века) не пропускал ни одной крупной выставки, совершал вылазки в театр. Все у него было в полном порядке, но иногда было такое чувство, что он остановился или идет куда-то не туда. Он думал, что это временно.

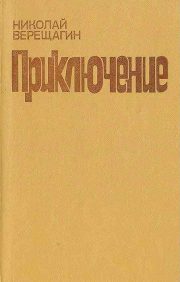
"Приключение" отзывы
Отзывы читателей о книге "Приключение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Приключение" друзьям в соцсетях.