Эмма подняла к нему заплаканное лицо:
– Ты должен был возненавидеть меня…
– Я и возненавидел. Но ненависть сожгла во мне остаток сил. И однажды я понял, что за этим – конец. Не осталось ничего – ни ненависти, ни любви. Только Он – тот, кто принял меня с любовью и даровал мне покой…
Атли закрыл глаза, подставляя бледное лицо лучам солнца.
Здесь, у колонн клуатра, было безветренно, слышно было, как вдали кричат чайки, а совсем рядом звенела синица.
– Господи, как славно, – тихо проговорил Атли. – Почему человек только перед смертью узнает, как щедро одарил его Господь?
Эмма продолжала всхлипывать, не поднимаясь. Каждое слово Атли обжигало и ранило ее. Ему было так мало отпущено, а она, ведая это, даже не попыталась сделать его счастливее. И все же она вздрогнула, когда он вдруг произнес:
– Что, если сейчас, когда оставшиеся мне дни сочтены, я попрошу тебя исполнить мою мечту и обвенчаться со мною?
Пожалуй, согласись она – и ей самой стало бы легче нести бремя вины. Подарить последнюю радость… Но она не могла сделать это, как не могла сказать ему, что носит в чреве плод своего предательства. Поэтому она лишь подняла к нему искаженное страданием лицо:
– Это было бы ложью, Атли!
Он вдруг улыбнулся:
– Спасибо, Эмма. Спасибо, что ты сберегла не только жалость ко мне, но и уважение к моему достоинству. А я было решил, что, кроме снисхождения, в тебе нет иных чувств.
Эмма вдруг подумала, что Атли теперь стал силен духом как никогда. Но вместе с тем она заметила и то, что он едва держится на ногах, ей даже пришлось поддержать его, когда он слегка покачнулся, хватаясь за выступы стены. И сейчас же рядом возникла Виберга. Эмма не сразу узнала ее в этой строгой женщине в синем покрывале и монастырского покроя платье.
– Прошу вас, помогите мне отвести господина, – проговорила она.
Видимо, Виберга все это время находилась рядом. На Эмму она взглянула лишь тогда, когда они привели Атли в его покой в дальнем крыле монастыря и уложили в постель. Он тотчас уснул, дыша со знакомым Эмме хрипом, но теперь даже хрип стал едва слышен. Эмма огляделась. Здесь было довольно уютно. На каменном полу – меховые ковры, полог кровати был из светлой шерсти, большой камин с лепным барельефом и двумя невысокими колоннами по сторонам, капители которых были украшены той же резьбой, что и колонны монастырской церкви. На столе первые цветы, старое кресло повернуто к окну, у его подножия – резная скамеечка. И хотя от голых стен и здесь веяло холодом, а притворенный ставень постукивал от сквозняка, было тепло, в воздухе витал пряный аромат можжевельника.
– Значит, здесь вы и жили?
Виберга стояла перед нею, слегка склонив голову и сцепив пальцы опущенных рук. Ее одеяние придавало ей достойный вид, но осанка все еще выдавала в ней рабыню. Не отвечая на вопрос, она начала говорить, что делала все, что должно, чтобы лечить Атли, как учили ее Эмма и сестра Мария. Но ему становилось все хуже и хуже. Даже молитвы во здравие, которые регулярно возносили аббат Лаудомар и вся братия, не помогли.
– И сам Атли молился, – продолжала она, глядя перед собой потускневшими, исплаканными глазами. – Иной раз ночи напролет. Я знала, что он теряет силы от этих бдений, но не могла ничего поделать. Он был словно древний святой…
Ее голос дрогнул. Эмма ласково взяла ее руки в свои.
– Бедная девочка! Да благословит тебя Господь за то, что ты была с ним, когда ему так нужна была близкая душа.
Виберга взглянула на Эмму, и глаза ее потеплели.
– У меня больше никого нет в целом свете. Но… – она собрала тонкие губы в привычно брюзгливую складку. – Но по ночам, в бреду, он звал вас.
Эмма вздохнула, опустив веки. Благо, что Атли хоть кто-то смог полюбить.
Она долго сидела у его ложа. Когда же стали сгущаться сумерки, пришел отец Лаудомар, сообщив, что скоро подадут ужин, но если гостья желает попасть в усадьбу Бьернбе, ей следует поторопиться, чтобы успеть до начала прилива.
Эмма пожелала вернуться на берег. Величие гранитного монастыря восхищало, но сейчас ей необходимо было передохнуть и получить поддержку друзей.
– Скажи ему, что завтра я снова приеду.
Настоятель дал ей проводника – упитанного розовощекого монаха, который оказался на редкость словоохотлив. Ведя ее белого коня под уздцы и шлепая по лужам посиневшими от холода ногами в ременных сандалиях, он без умолку болтал о том, что этот молодой норманн мог бы считаться истинным святым, если бы при нем не состояла его женщина. Затем он сбился на то, что в Бьернбе у него множество приятелей среди крещеных и некрещеных норманнов, и кое с кем из них он даже не прочь подраться на кулаках или того лучше – на палицах. Он хорошо знает господина Бьерна еще с тех пор, как он прибыл сюда вместе с самим великим Ру. Когда-то он поспорил с самим Серебряным Плащом на добрый тумак, что одолеет за обедом целого телка и даже косточки обглодает, и выиграл; правда, потом неделю кряду маялся животом. Зато и почитатель Одина покатился по склону дюны, когда он наградил его доброй галльской оплеухой.
– Долго ли еще ехать, брат Радон? – осведомилась наконец Эмма. Она была совершенно не расположена выслушивать всю эту хвастливую чушь.
– Видите крест на той высокой дюне? Его установили двести лет назад, когда море впервые нахлынуло на эту землю. Он является рубежом, дальше которого прилив никогда не доходит. Даже норманны не решились повалить его, дабы точно знать, где граница воды. За ним и усадьба.
– И вы отправитесь назад?
– Господь с вами, дитя мое! Разве что захочу, чтобы меня поглотил прилив. Нет уж, предпочитаю остаться в усадьбе. Да и на избранницу волокиты Серебряного Плаща охота поглазеть, а уж горшочек жаркого продрогшему монаху, надеюсь, новая хозяйка не поскупится уделить.
И он лукаво подмигнул девушке – мол, вовсе не тайна, что и монахи иной раз согрешают скоромным в пост.
Прилива Эмма на сей раз не увидела, а лишь услышала его. Грохот валов прорывался даже сквозь неистовые крики о чем-то споривших во хмелю Бьерна и брата Радона.
Всю следующую неделю Эмма ежедневно проделывала путь от усадьбы Бьерна к горе Мон-Томб и обратно. На ночь в монастыре она не оставалась – ее словно гнало прочь молчаливое присутствие Виберги. День же ее полностью был посвящен Атли. Она приезжала, едва наступал отлив, а уезжала с приближением сумерек. Но однажды, когда Атли был особенно плох, она задержалась дольше обычного, и аббат Лаудомар отсоветовал ей возвращаться, так как близился час прилива. Эмма уже дважды наблюдала приливы и отливы – море отступало тихо, словно засыпающий зверь, но возвращение вод происходило стремительно и грозно, со скоростью несущегося в карьер коня.
Когда Эмма с отцом Лаудомаром стояли возле узкого, прорубленного в скале оконца, наблюдая с высоты за пенными грядами валов, устремляющихся к земле, святой отец пояснил, что гибель людей в окрестностях Святого Михаила вовсе не редкость. Помимо необычно высокого прилива здесь есть и зыбучие пески, а также коварные устья двух рек, которые текут, постоянно меняя русла и разливаясь самым стремительным и причудливым образом.
– Однажды здесь едва не погибла супруга Роллона Нормандского, – заметил епископ, и Эмма недоуменно взглянула на него.
– Поистине, странная женщина. Казалось бы, после того как ей с трудом удалось спастись, ей следовало бы избегать этих мест, однако всегда, когда Ролло приезжает сюда, она сопровождает его и иной раз целыми днями блуждает в одиночестве среди дюн. Не ошибусь, полагая, что она знает приморскую округу лучше кого бы то ни было. А вот Бьерн Серебряный Плащ предпочитает сухие земли на юге и опасается предательских песков.
Эмма и сама заметила это, когда Бьерн вместе с нею посетил Мон-Томб. Весь путь верхом он проделал в молчании, что само по себе было необычно, лишь однажды обронив, что ехать необходимо по прямой, проведенной от вершины дюны с кельтским крестом до подножия горы, и это самый надежный и короткий путь. Когда они прибыли в монастырь, Бьерн оживился, однако свидание с Атли вновь повергло его в уныние:
– Я всегда знал, что маленькому ярлу отпущен недолгий срок, но никогда не думал, что столь тяжело будет видеть его уход. Я знал его совсем мальчишкой…
Эмма все свое время проводила с Атли. Он был так слаб, что в иной день ему следовало бы оставаться в постели, но он вновь и вновь заставлял себя подниматься на ноги, чтобы посещать все службы в церкви. Эмма считала, что этот храм неподходящее место для больного Атли, но юноша лишь улыбался в ответ:
– Когда я слышу стройное пение псалмов, мне становится легче. Я чувствую тогда, что готов предстать перед тем, кого столь упорно не желает признать мой брат.
Однажды он впал в беспамятство посреди мессы, и Эмма сказала ему позднее:
– Господь видит твою веру, ибо читает в душе детей своих, как в открытой книге. Пожалей же себя!
Но Атли продолжал упорствовать:
– Пока во мне есть хоть капля силы, я буду вставать. Не хочу, чтобы смерть пришла ко мне, когда я буду беспомощен, словно связанный жертвенный ягненок.
Порой они с Атли проводили время в скриптории монастыря. Это было самое покойное и сухое место на горе. В больших каминах трещал огонь, слышно было поскрипывание перьев братьев-переписчиков. Атли и Эмма садились в нише окна, порой к ним присоединялся отец Лаудомар. Между настоятелем и братом Роллона установились поистине приятельские отношения.
– Это необыкновенно ученый человек, – говорил Атли. – В молодости он побывал в Риме и посетил могилу Святого Петра. Святость его так велика, что, при всей кротости отца Лаудомара, его слушается даже мой брат.
Эмма и сама замечала, что в присутствии этого полного благодати старца на нее нисходят мир и спокойствие. Его негромкая, плавная речь лилась, словно струи чистого ключа.
– Некогда здесь было кельтское святилище, – повествовал настоятель. И только в пятисотом году от Рождества Христова сюда прибыли два монаха – Патернус и Скубилион. До сих пор сохранились две маленькие часовни в их честь. Однако, когда вы видите где-либо на стенах построек изображения трехрогого тура или змеи с головой барана – это следы гнусных языческих культов, и я велел бы их уничтожить, не будь они столь прекрасны, столь мастерски исполнены…
Эмме нравилось столь терпимое отношение святого отца к наследию древности, но больше всего ее дивило, как много знает этот священнослужитель, правящий своей паствой на самом краю света, обо всем, что творилось и творится в мире. Он поведал Эмме, как ее мнимый дядюшка Фульк Рыжий сжег предместье Блуа; как в Реймсе состоялось венчание короля Карла и английской принцессы Этгивы; он знал многое о повадках и обычаях диких мадьяр, вновь теснящих христиан с востока так, что германский король Людовик Дитя потерпел от них сокрушительное поражение на Леховом поле.
Эмма слушала с живейшим интересом, у Атли же был отсутствующий вид. Казалось, ничто уже в этом мире его не занимает. Однако, когда она обратилась к нему с вопросом, как вести издалека доходят до Мон-Томб, он спокойно пояснил, что их приносят паломники. Эмма даже рассердилась на себя за недогадливость. Конечно же – дня не проходило, чтобы среди песков не появлялись силуэты тех, кто брел по зыбкой почве к святилищу воинственного архангела Михаила. Эмма не раз видела, как настоятель сам выходил им навстречу, опускался на колени и омывал странникам ноги, и это всегда трогало ее, хотя она знала, что даже короли франков дважды в году преклоняют колени перед теми, кому Господь оказал предпочтение – перед бедняками.
Всякий раз после полуденной службы Атли просил девушку отвести его к скалистому выступу, откуда открывался вид на море. Здесь находилась довольно обширная, мощеная гранитом площадка, за краем которой разверзалась бездна, ибо даже обломков парапета, не считая двух-трех глыб, не осталось со времен первых поселенцев. Здесь всегда грело солнце, но было ветрено, и Эмма, усадив Атли в складное кресло, укутывала его в меха. Он зяб, но не мог отвести глаз от моря.
– Я хочу первым увидеть драккар Ролло, – твердил Атли. – Нас с братом связывает неразрывная нить крови. Когда в Байе Ботольф утверждал, что конунг прибудет со дня на день, я сомневался, ибо сердцем чувствовал, что он еще далеко. Теперь же он в пути, я знаю твердо.
Эмма обращала лицо к морю, и ее охватывало волнение. Он уехал с ненавистью в сердце, и теперь она ждала его с чувством, похожим на ужас. Но это был сладостный ужас, ибо в нем трепетала надежда.
Атли не мог не заметить этот ее взгляд и однажды сказал:
– Когда я узнал о твоей измене, мне показалось, что я навсегда утратил интерес к жизни.
Эмма взглянула на него испуганно. До этой минуты он ни словом не упрекнул ее. Но в том, что он говорил, не было чувства обиды, это было воспоминание о том, что ушло и уже не вернется.
– Не говори так! Как мне жить, неся бремя такой вины!

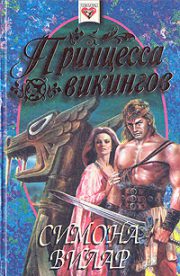
"Принцесса викингов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Принцесса викингов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Принцесса викингов" друзьям в соцсетях.