— Адуся, мы выберемся. Делай, как я. Хватай младшего, а я этого и побежали, отстанем. — Кричу я ей, пытаясь перекричать гудок паровоза, собирающего разбежавшихся пассажиров. Я забираю у мёртвой женщины сумочку, надеясь, что найду там документы. Мы несёмся к вагону. Находим. Считает вагоны Ада, а я уже ничего не соображаю. Влезаем. Наши немногочисленные вещи целы. Зато стёкол в вагоне почти не осталось. Седенький старичок, что разместился напротив нас, какой-то учёный. Мы с Адой про себя называем его профессором. Оказывается, он никуда не убегал. На мой изумлённый взгляд, профессор помотал головой и, прокашлявшись, сказал:
— Стар бегать. Всё едино умирать.
Я ничего не могла на эту жизненную мудрость сказать. Возражать глупо. Уговаривать бесполезно. Война и каждый своей жизни хозяин. Он ничего не спрашивает про чужих детей. Ему понятно. Но приползает полная дама с многочисленными вещами и начинает ворчать. Ей не нравятся новые маленькие пассажиры. Профессор ныряет в свою тетрадь. Я делаю вид, что занята малышами, а она начинает толкаться, демонстративно проверяя оставленные в вагоне сумки и баулы. "Не украли ли чего". Мы, с профессором, неловко себя чувствуя, переглядываемся. Чтоб не взорваться, оба решаем, что её для нас не существует. Возможно ещё есть другой способ бороться с такими, но я его не знаю. Наконец, я нашла в себе мужество и посмотрела в окно. Насыпь была усеяна телами. Война проклятущая. Меня затрясло. Там, откуда нас уносил поезд, остался Костя. Если тут такая жуть то, что же делается там. Хорошего, наверняка, мало, раз фашисты прорываются в такую глубь. Ада утешает малышей. Я раскрываю ридикюль их матери. Да, документы на месте. Значит, детей можно будет определить в приют или разыщут родственников. Может, повезёт им и отец, оставшись жив, после войны найдёт их. Ведь должна же она когда-то кончиться. Разместившись, стала думать, как быть дальше. Мы с Адой ехали почти полуголодные. Собирались на скорую руку. Минимум продуктов и вещей. Никто ж не знал, что поезду придётся ползти, черепашьим шагом, а мы будем больше бегать по лесу и насыпи, нежели ехать. Как прокормить ещё эти два рта? С ума сойти можно. Тяжело, и бросить — не бросишь. Я перестаю, вообще, есть. Отламываю на язык маленький кусочек и запиваю водой. Профессор тоже не ест, подсовывая свои скудные запасы детям. Мы не сговариваясь, объединяемся. В результате на мои руки ложится ещё и старик. А противная баба, роясь в своих корзинах, жуёт и жуёт… И ничего не скажешь, не попросишь — это люди. А быть они могут — разными, всех под свою гребёнку не подгребёшь. Вскоре мы узнали, что она ходила по вагонам и меняла свои продукты на золотые вещи. Кому война, а кому мать родная, так уж устроен свет.
Поезд просто встал посреди поля. Корова жующая траву и мужчина, косивший лужайку — это всё на что мы могли смотреть. Эта сцена была такой мирной, что трудно было поверить в то, что страну накрыла беда. Постояли и тронулись. Поезд набирал ход, а мы всё смотрели и смотрели в окно…
Мы опять стоим уступая дорогу встречным эшелонам. Они торопятся на фронт. Возможно это идёт помощь Костику. Сердце сжала тревога за него. А у нас текут однообразные дни. Ада первое время донимала меня бесконечными разговорами и вопросами. Только что я могла ей объяснить, если сама ничего не понимала. Все верили Сталину. А он твёрдо обещал — войны не будет. Но, сейчас насмотревшись, она повзрослела на глазах и молчала. Я, уложив детей, приткнула голову к окну и закрыла глаза. Господи, какой ужас! Чем это кончится? Нет, нет, так нельзя рассуждать… Только победой! Непременно победой! Потихоньку малыши, поканючив, устроились и забылись. Ада, как наседка, с ними. Теперь всю дорогу, если нас не накроют фашистские бомбы, будет при деле. Нас вновь бомбили, а мы продвигались понемногу вперёд. О Косте: где он, что он? старалась сейчас не думать. Он старый опытный воин, непременно выживет и остановит врага. Я же расклеюсь. А мне нельзя, на моих руках дочь и эти несчастные сиротки, я должна быть сильной. Невыносимо долго стояли на станциях. Хотя это давало возможность разжиться новостями и сбегать за кипятком, всё равно тошно ждать. Пройдя по составу с мальчиком, я нашла вещи женщины. Она была более запасливой, нежели я. Может потому, что маленькие дети, а я послушала дежурного офицера и, понадеявшись на то, что нам с 15-летней дочерью мало надо и мы обойдёмся минимумом, поехала налегке. Обзаведясь чайником, выходили на перрон за кипятком с Адой вместе, предпочитая не оставаться по одной в вагоне. Насмотревшись по дороге на трагедии, я страшно боялась потерять дочь. Как я потом посмотрю в глаза Косте. Он воюет, а я не смогла уберечь от беды его ребёнка. Ведь последние слова его были понятны: — "Береги дочь". Сироток на это время брал под присмотр профессор. Мы метались с дочерью по привокзальному рынку, пытаясь разжиться продуктами. Люди и города менялись на глазах. Яркие краски исчезли. На всём стояла печать беды. Окружающий мир и всё в нём стали серыми строгими и мрачными. Оно и не могло быть по- другому: у смерти чёрный цвет.
Нас несла на вокзал надежда. А вдруг всё же кончилось… Ведь бывает… Уже и надежды нет, а ситуация выправляется. Но иллюзии таяли. Скорбные лица, чёрные платки… Кругом слышно одно лишь слово. Война! Оно звучало в сердцах людей набатом. Все ходили мрачные. Стараясь не отвлекаться и действовать сугубо по плану, мы набирали кипяток, стояли, замерев в толпе хмурых людей у тарелки репродуктора, с трепетом ловящих каждое слово. "О боже, сжалься, я могу ехать голодной, но я должна хоть что-то знать о нём". Но речь шла о кровопролитных боях и людях, ценой жизни сдерживающих превосходящие силы противника. О Косте я не услышала ни слова. Ада тоже хмурилась. Она рассчитывала, как и я, услышать об отце. Мы прослушали обращение Молотова к народу, скупую сводку, и репродуктор замолчал. На площадь полилась музыка, тревожная, рвущая сердце и выворачивающая душу. "Почему же молчит Сталин?" Ада, злясь, топнула ногой.
— Наши, такие сильные, почему отступают?
Я растерянно пожимала плечами. Реальность выявилась совершенно иной. Всё получилось не так, как показывали в кино и писали в газетах: почему-то наша армия не гонит немцев от своих границ на Берлин, а отступает.
Я ничего не ответила, а потянула её к составу. По ходу купили горячих картофельных котлет. Малыши были рады. Адка тоже уплетала, не ломаясь. А ведь такая привередливая в еде. Правда, она быстро приспосабливается к обстоятельствам и хорошо ориентируется в обстановке. Нарастал гул. Народ высунулся в окна. Что это может быть? Над нами проплывали пузатые бомбардировщики. На крыльях кресты. Мы смотрели, как заворожённые. Шли сплошной чёрной стаей. Настоящее вороньё. Летят мимо. Поняли: мы им не нужны, идут на Москву. Где же наши соколы, почему не сбивают, а безнаказанно пропускают? Гул отдалился. Слава богу, пронесло, и нас не тронули, иначе бы накрыли всех. Опасны единичные, эти ловят удачу и кайф. А тут ещё кто-то умный, взяв простыни, намалевав красные кресты, нацепил их на крыши вагонов. Понятно — лелеяли надежду, что не будут бить по крестам. Раненные. Но тщетно. Лупили за милую душу. Для них это был своего рода ориентир. Всё стянули и выкинули, уже больше не фантазируя. Несколько раз попадали в жуткую бомбёжку на вокзале. Раз повезло: был прицеплен паровоз, и поезд моментом отправили со станции подальше от налёта. Другой раз, профессор, накрыв полой пиджака сирот, оставался в вагоне, а её просил:
— Торопитесь, голубушка, Юлия Петровна, не испытывайте судьбу, а мы уж меченные богом, нужны — заберёт, нет — дождёмся вас.
Противная баба — соседка наткнувшись на нашу "стену", больше не пыталась всучить нам свои баулы. Поезд стоял, и мы, сцепив замком руки, толкаемые со всех сторон, прыгнули на насыпь. Ариадна устояла, а я, подпихнутая кем-то сзади, упала, сильно содрав ногу и локоть. Ада, сообразив, быстро дёрнула меня на себя и этим спасла — не затоптали. Хромая, я с трудом успевала за дочерью. Люди торопились, стараясь отбежать, как можно дальше от вагонов в лес. Самолёты отбомбив улетели. Но нас не приглашали в поезд. На этот раз застряли надолго. Восстанавливали разбитые пути и меняли паровоз, людям велено было ждать в лесочке, но мы с Адой вернулись в вагон, там остались малыши. Шли вдоль состава, не глядя друг на друга. Что там? А вдруг все мертвы? Но беда опять обошла стороной. Мы обнялись, как родные. Дети привыкли к бомбёжкам и не плакали. Неделя пути. Уже привычный перестук колёс. Скорее бы уж столица. Давно я в ней не была. Покачивается вагон, убаюкивает, как люлька. Но спать не получается, страх за Костю не даёт. Всю ночь опять не сомкнула глаз. До Москвы мы всё-таки добрались. Правда, с большим трудом и ночью. И не совсем до Москвы, где мы должны были поселиться у родственников. На подъезде к столице поезд загнали в жуткий тупик.
Проснулись от резкого стука буферов. Похоже поезд остановился. Выглянула, стоим не понятно где. Разъезд, тупик? Всегда нарядный город, тревожно скрывался под покровом темноты, в стороне от нас. Из вагонов не выпустили. Рывком опустила раму случайно целого вагонного стекла. Страна быстро оправилась от шока и была уже готова к беде. Заклеенные окна. Зенитки. Много составов и военных. Почти никакой информации. "Костя, моё сердце превратилось в камень, где ты родной, жив ли?" Я впервые позволила себе подумать о тебе. Дай бог, чтоб на твоём пути были только любящие сердца и тёплые руки… Юркие подростки нарушая все инструкции выпрыгивали из окон и неслись в сторону маленького вокзала, ближе к жилью и людям. Всех убивала отсутствие информации. Ловили каждый слух, каждую сплетню. Как там на войне? Остановили фашистов или нет? Кто-то сказал, что немцев отбросили и гонят назад. Все сомневаются и верят. Усталые лица светятся улыбками, но иллюзию быстро разбивает военный с усталым лицом, идущий вдоль состава. Его тут же берут в оборот изголодавшиеся по информации люди. Из нескольких вагонов слышится перебивающий друг друга хор голосов.
— Товарищ военный, скажите как там?
— Погнали немцев или нет?
— Дали наши им жару?
Он встаёт, достаёт со дна фуражки носовой платок, вытирает им шею и лицо, на все вопросы отвечая скупо и односложно:
— Не погнали. Тяжело. Бьёмся. Большие потери.
Я догадывалась об этом. Будь по-другому, не летели бы чёрными тучами мимо нас вглубь страны их самолёты. Теперь я не сомневалась: победа будет не скорой. Больше уже никто не верил в радостные новости, хотя безумно хотели их услышать. При последних его словах, я превратилась в кусок льда. Кровь отбивала в висках: большие потери, большие потери… Но вот опять пронеслось по вагонам лёгким ветерком — остановили у села, на высоте, у реки. Надежда грела сердца. А вдруг именно здесь застопорят и погонят… Только надежды не оправдывались, утешительного пока ничего не было. Мы тоже стояли который уже день под Москвой. С нами решали, что делать. По-видимому, чёткой программы на счёт беженцев ни у кого не было. Мы были первыми. А уже начали прибывать эшелоны с ранеными. Я, не выдержав и наказав дочери, из вагона ни-ни. Если разминемся, я её найду на конечной. Побежала к прибывшему составу с ранеными. "Кровь из носу", мне надо туда попасть. Откуда? Какой фронт? — неслась я вдоль вагонов, крича в разбитые окна. Рутковского нет? О Рутковском не слышали? — Нет, нет, нет… Я вернулась в вагон. Наверное, на меня было страшно смотреть. Потому что дочь, испуганно, не сводя с меня глаз, спросила:
— Мамуля, ты чего? О папе что-то нехорошее узнала?
— Пока нет. Бегала к составу с ранеными. А вдруг он там, а мы были рядом и не знали об этом…
— Мам, успокойся, папка сильный, его никому не одолеть, он бьёт врага, я тебя уверяю.
Я смотрела вдаль туда, где в пелене мглистых облаков стыли туши аэростатов воздушного заграждения. Где-то в глубине клубился дым большого пожара. Бомбили сволочи и опять летят. Над нашими головами, в поднебесье, плыл гул авиационных моторов. — Чужие. "Юнкерсы". Я покосилась на задравших головы вверх, рядом со мной людей. Все переживали. Понимали, фашист идёт на Москву. В их брюхах плывёт смерть для наших стариков, женщин и детей. А мы ничем не могли помочь. Просто молча стояли и смотрели. Одна надежда объединяла нас- может, собьют гадов наши зенитки!
За окном всю ночь гавкали и выли бродячие собаки. Утром по эшелону прошёл слух, что нас отправляют дальше в тыл. Так и есть, продержав под Москвой, нас погнали вглубь страны. Надежда угасла. Ни о каком возвращении к Костику речи не шло. Конечно, он знал об этом, когда отправлял. Мы проскочили Москву сходу, окраинами. Опять плыли за окном поля, деревни и леса, мелькали полустанки. Что это будет: Урал, Забайкалье, где прошла юность, где я была так счастлива с Костей? Сердце разрывалось на части. Если не приняла Москва, значит дело плохо. Это сообщение о выравнивании линии фронта, может означать лишь одно: фронт быстро и беспорядочно откатывается, где же Костя? Вновь долго стоим на полустанках. Пропускаем эшелоны с ранеными и новобранцами на фронт. Получается, пропускаем всех. Боже мой, как тяжело, бесполезно болтаться в составе, скорее бы уж конец и что-то делать, быть полезной. Беда быстро сводит людей. Люди либо молчком помогают друг другу, либо так же молчком без обид расходятся. Мы поддерживали друг друга с профессором. Ада познакомилась со сверстниками и не лезет больше ко мне с бестолковыми вопросами. — Почему так получилось? Да — Отчего не смогли? И они пытаются разобраться в этом сами, грея на груди надежду сбежать на фронт. Фантазируют, разрисовывая одни красочнее другого картинки боёв и сочиняя на тему победы над фашизмом. Уж больно хотелось всем скорее прогнать фашистов. Профессору не сиделось, и он, отмечая что-то в тетради, ходил взад — вперёд. Передо мной были голубые глаза Костика, его виноватая улыбка, в ушах звучал родной голос. "Люлю, дорогая, всё будет хорошо!" Я, прикусив кулачёк, застонала. Мистическая вещь-память. Всё-таки прорвалась. Теперь весь долгий путь она не отпустит меня, наполняя, то радостным, то грустным.

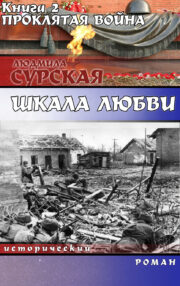
"Проклятая война" отзывы
Отзывы читателей о книге "Проклятая война". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Проклятая война" друзьям в соцсетях.