Новая семья, в которой работала тетя Ирэн, была чрезвычайно далека от «стиля» барона Линка и его ненавязчивой элегантности. «Это очень живые люди», – предупредила она меня не без веселости в голосе. Я понял, что она имела в виду, едва ступив на первые ступеньки крыльца, где меня чуть не сбил с ног детина в плавках, выскочивший из прихожей настолько стремительно, словно там взорвалась бомба. Я посмотрел вслед этому атлету, умчавшемуся в сторону пляжа, где он, должно быть, вбежал в воду не менее энергично, чем регбисты заносят мяч за ворота противника. Я узнал, что он – предпоследний из родившейся в этой семье шестерки юных титанов. Ирэн представила мне свою новую «маленькую ученицу», младшую в семье, чьи габариты, хотя и довольно внушительные для ее возраста, пока еще позволяли приблизиться к ней без особой опаски. В тот день, как и в последующие, мы устроились в глубине сада, подальше от виллы, где почти постоянно метался какой-нибудь шумный великан. Верная своим педагогическим привычкам, тетя старалась развлекать девочку, уча ее вышивать носовые платки, составлять букеты из еще не вытоптанных садовых цветов. Слава богу, эта отроковица обладала благодушным, вполне соответствовавшим телосложению нравом. Когда ей надоедало заниматься букетами, она слушала наши разговоры о нежной Эллите. Интересно, от избытка внимания она задерживала дыхание или от сознания ужасающей разницы между ней и той особой, о которой мы говорили? (Поскольку из-за ее косоглазия казалось, что она постоянно наблюдает за собственными очками в стальной оправе, сидевшими у нее на переносице, словно большая стрекоза, можно было предположить, что она старается не дышать, чтобы не потревожить стрекозу и другую окружавшую нас живность.)
Эллита уехала, покинув нас, тетю Ирэн и меня, в мире, лишенном грации и населенном великанами. Можно было подумать, что новая ученица чувствовала печаль нашего изгнания и тоже поддавалась нашей меланхолии. При этом, однако, она была все же чересчур громоздкой, чтобы вполне соответствовать подобным утонченностям, и когда она отгоняла букетом купавок круживших вокруг мух, которые явно отдавали ей предпочтение перед нами, было видно, что она пользуется им так же непроизвольно и естественно, как корова своим хвостом.
Отвергнутый поклонник страстно ищет малейшую возможность поговорить об отсутствующей, хотя бы даже с первым встречным, и я не был исключением, а тут еще у меня оказался подходящий собеседник, поскольку тетя Ирэн искренне разделяла мою печаль: мы сообща отправляли наш ритуал, взывая к единому невидимому божеству, царившему в наших сердцах, которое теперь словно являлось нам благодаря нашим молитвам.
Однако самое большое удовольствие я испытывал в тот момент, когда возвращался на велосипеде из Довиля. Я не особенно задумывался над тем, благодарно ли веду себя по отношению к фее, которая помогала мне воскрешать милый призрак, так как наступал момент, когда я снова был настолько переполнен Эллитой, что присутствие тети Ирэн начинало тяготить меня, и тогда я внезапно прощался, чтобы остаться наедине с той, которую мы только что воскресили. Дорога, по которой я возвращался, проходит по вершине одной из скал, откуда виден весь берег, от Котантена до устья Сены. Я задерживался немного на этом бельведере, уединенность которого (весьма относительная и обычно приправленная остатками какого-нибудь пикника) соответствовала моему лирическому настроению и подсказывала волнующие видения меня самого в роли влюбленного пастуха, поэта или героя на пустынном берегу. Зыбь покрывала бликами шелковистую поверхность моря, которую там и сям разрезали ножницы закатного солнца. На расстоянии волнение водной массы было незаметно и пенистая кромка, разрисовывавшая берег тонкими завитками, казалась вырезанной из слоновой кости. Я бросал велосипед в траву и подходил к краю скалы, где садился, словно на парапет, свесив ноги, и наслаждался головокружением и легким страхом. Лишь отдаленный рокот волн, который с нерегулярными интервалами доносился до меня, как-то отмечал ход времени. Неподвижное море поклевывали время от времени белые паруса, а в стороне Сент-Адреса отправлявшийся в Нью-Йорк теплоход казался навеки приклеенным к горизонту.
V
На ней было белое батистовое платье с бретельками-воланами. Она срезала садовые розы, и составление букета настолько поглотило ее внимание, что она не услыхала, как я приблизился. На ее позолоченных солнцем плечах колыхалась тень вишневого дерева. Я замер, созерцая эту листву, ласкающую загорелое тело. Из-за эффекта прозрачности, создаваемого игрой света и тени от заходящего солнца, она казалась мне обнаженной.
После двухмесячного отсутствия мне наконец ее вернули! Я так сильно желал ее, желал ее присутствия, что если бы даже увидел ее издалека, за решетчатой оградой или в окне, то и тогда не мог бы вполне отделаться от иллюзии, будто я обладаю ею. В течение еще нескольких секунд я предавался счастью созерцания, ничего не говоря и не пытаясь ничего добавить к чуду ее присутствия, настолько близкого, что моя тень, смешиваясь с тенью вишневого дерева, подрагивала на ее открытой шее. Эллиту мне возвратили, и первый ее образ, возникший у меня перед глазами, был образом обнаженности.
От одной розы оторвался шмель и завис над листвой на фоне медно-красного неба, передвигаясь незаметными скачками в сторону. Эта крохотная жужжащая машинка, казалось, мало-помалу, наподобие сверла, проникала в огненно-золотой витраж сумерек. И я тоже, в свою очередь, попытался проникнуть с помощью моей собственной неподвижности в прозрачную толщу этого мгновения, казалось, превратившегося в оправу тела Эллиты.
Тут она вздрогнула, словно от прикосновения моих взволнованных мыслей, и обернулась: и сразу же ее взгляд, подобно шали, набрасываемой на плечи, вдруг развернул между нами полог радостного, слегка наигранного удивления. Безмятежность облику Эллиты придавало ее лицо, не позволявшее прочесть ни одной мысли, которая не была бы изящно приготовленной, словно макияж, положенный ею для вечера и состоящий из множества элементов, или какое-нибудь удачно подобранное платье: при этом в Эллите не было ни фальши, ни какой-либо искусственности, просто ей привили такое чувство собственной красоты – и тетя Ирэн была причастна к этому, – что она как бы испытывала от нее некоторое неудобство, ощущала дополнительную ответственность, без которой предпочла бы обойтись, и была вынуждена постоянно проявлять эту «сдержанность», присущую, в частности, дипломатам, министрам и, кстати, очень красивым женщинам, облеченным властью и повышенной ответственностью.
«Ну вот мы и вернулись!» – произнесла она своим немного поющим в минуты, когда она испытывала замешательство, голосом, который словно старался подыскать наиболее соответствующую словам мелодию. А что касается самих слов, то она нашла их без малейшего затруднения: не нужно было и в самом деле ничего говорить, кроме этого «ну вот мы и вернулись», которое столь чудесно звучало для моего слуха, но которое для нее могло почти ничего не значить. Она подалась вперед, чтобы поцеловать меня, стараясь, однако, при этом не сломать свои розы. Ее рука мягко легла мне на плечо. Я почувствовал холодное лезвие садовых ножниц у себя на затылке. Потом она откинула голову, впрочем, не отрываясь от меня, но держа, так сказать, на почтительном расстоянии между розами и ножницами, и в течение минуты смотрела на меня растроганным взглядом, как на ребенка, находящегося в хорошей физической форме.
Я по-прежнему не мог найти, что бы такое сказать ей, возможно, оттого, что весь выговорился в мысленных диалогах. Мы дошли до дома, Эллита впереди, держа букет в руках так, как держат младенца, а я за ней следом, отделенный от нее этими цветами, которые ей не пришло в голову бросить, чтобы прижаться ко мне.
Большая гостиная показалась мне переполненной тишиной, хотя через распахнутые окна доносились шумы близлежащего бульвара. Царящий в салоне покой был покоем самих предметов – извлеченной из-под чехлов, но еще не ожившей мебели: то были театральные декорации перед поднятием занавеса. Эллита поставила розы в стоявшую на камине хрустальную вазу. Возможно, она сделала это несколько более старательно, чем требовалось. Она тоже, должно быть, чувствовала, что занавес еще не поднят: мне показалось, что ее движениям не хватает естественности, что она наблюдает за собой со стороны, как некоторые актеры, когда они повторяют вполголоса роль, играя мускулами лица перед зеркалом артистической уборной. Хотя вначале ее холодность, возможно, объяснялась замешательством, похожим на мое собственное: быть может, внезапно появившаяся у нее мысль о том, что она заставила меня страдать, смутила ее, подобно тому, как я испытывал стыд оттого, что, страдая от разлуки, накопил в себе слишком много уныния.
Когда букет был наконец пристроен и роза заняла в вазе предназначенное ей еще с незапамятных времен место, мы присели на край дивана, словно благоразумные жених и невеста. Мне показалось, что Эллита впервые признала силу и непреклонность моей страсти и что от этого она ощутила реальное волнение. Какое сделала она открытие, какая вызвавшая волнение мысль пронзила ее вдруг на пути от клумб, где она срезала розы, к гостиной, и отчего у нее на лице появилось это выражение робости? Чтобы прервать молчание, она спросила слегка сдавленным голосом, как прошли мои каникулы: я ответил, что на каникулах почти всегда скучаю и что о них не стоит и говорить. Даже если представить, что нас познакомили лишь минуту назад и оставили наедине без каких-либо объяснений, то и тогда мы не чувствовали бы такого стеснения.
Тут Эллите захотелось показать мне фотографии своего дома в Буэнос-Айресе, но, когда она встала, чтобы сходить за ними, я остановил ее и раздраженно попросил ничего не говорить мне об Аргентине и тем более не показывать ни свой дом, ни места, где она побывала. Она опять села на диван, не обнаружив ни разочарования, ни удивления, словно испытав какое-то облегчение оттого, что ей не нужно говорить об этой стороне своей жизни. А я тут же пожалел о своей вспышке гнева. Было, наверное, что-то смешное и даже низкое в моей ревности к дому. А Эллита между тем молчала, потому что я запретил ей делиться воспоминаниями о проведенных каникулах. Она наблюдала за мной со смиренным и огорченным видом, как будто кто-то, какой-то внутренний голос, наконец, внушил ей, что моя любовь к ней – настоящая, и что мои страдания – тоже настоящие, что мои слова, мои вздохи – это не шутки, а неотвратимость моей судьбы: она, похоже, вдруг услышала – словно вырвавшиеся у спящего слова – все то, что я не смел поведать ей вот уже целый год, поскольку опасался, как бы рассказ об этой безоглядной и безотрадной любви не причинил ей боль, вместо того чтобы вызвать ко мне сочувствие.
Ее взгляд и даже лицо изменились. В первое мгновение я этого не заметил; там, под вишневым деревом, я был ослеплен розовым, светловолосым видением: поначалу в той юной девушке с обнаженными плечами я увидел не Эллиту, а свое воспоминание о ней, освещенное двойным светом – солнца и моего желания. (Тот образ обладал четкостью призрачных образов, возникающих от ослепления, странных фосфоресцирующих силуэтов, танцующих в лучах изумрудного солнца еще долго после того, как закроешь глаза.) А тут, в гостиной, по мере того как мои глаза привыкали к мягкому свету, к своеобразному полумраку вновь обретенного счастья, я с удивлением обнаруживал девушку, похожую на мое воспоминание об Эллите, но только – словно какой-то осторожно отретушированный портрет – с чертами, отмеченными чем-то более нежным, может быть, несущим на себе печать любви.
(Сегодня я гляжу из настоящего в то прошлое и мне кажется, что я еще никогда не был так близок к Эллите, как сейчас, что я вот-вот наконец пойму, кем она была тогда и не переставала быть впоследствии, иными словами, какова была ее реальность «во мне», реальность моего желания, моей тоски, ностальгии, возникшей в первое же мгновение и длящейся вот уже тридцать лет: все женщины, с которыми я встречался потом, имели очертания той ностальгии. У них у всех было что-то от Эллиты, иногда взгляд, иногда какая-то мимолетная интонация голоса. Порой сходство оказывалось еще более легким, чем-то вроде намека, смысл которого, нередко парадоксальный, открывался мне лишь гораздо позднее, подобно тому, как из-за черных волос на фарфорово-белых плечах, увиденных однажды вечером в раздевалке театра и включивших во мне биологический механизм отрицания, я потом несколько месяцев не находил себе места: у всех этих женщин было что-то от Эллиты. Все так или иначе, зачастую странным образом, через неожиданные ассоциации, по законам причудливой симметрии, как бывает разве что во сне, напоминали о ней. Значит, моя склонность к этим женщинам явилась всего лишь продолжением, чувствованием моей первой любви, которой я в этом смысле сохранил верность. Однако все эти приключения лишь подчеркивали отсутствие Эллиты, и все они возвращали меня к моему одиночеству. Хотя я и забыл в конечном счете причину моего неизбежного краха, хотя по прошествии многих лет мне стало казаться, что лицо и даже само имя Эллиты навсегда стерлись в моей памяти. Любят всего однажды, прочие любовные переживания, испытываемые на протяжении жизни, всего лишь увековечивают то единственное. Первая женщина, которая встречается в нашей судьбе, наделена, как никакая другая впоследствии, тем, что нам неизвестно в тот момент ни о ней, ни о нас самих, и все это образует таинственную амальгаму, вписывается в наше представление о ее неповторимости, питает уверенность в том, что никакая другая женщина во всем роде человеческом не в состоянии дать столь исчерпывающего ответа на нашу потребность в счастье. Нам даже и в голову не приходит, что единственной составляющей этого совершенства является как раз наше представление о счастье и что в этой женщине мы любим только это, и больше ничего. Ну а это представление недолго остается общим и абстрактным. Оно обретает отчетливые контуры: вскоре у него появляется своя улыбка, своя манера держать голову, своя походка, свое выражение лица, отныне призванные всегда питать нашу ностальгию, которая становится иной, окончательной формой нашей нетленной и уникальной страсти. А значит, внучка барона Линка, этот дар, принесенный однажды солнцем на порог моего дома, была всего лишь первым из явлений «Эллиты», первым и самым решающим, но отнюдь не единственным воплощением во мне вечного желания любить.

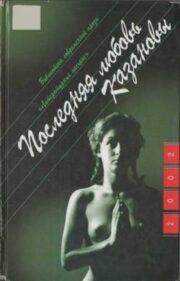
"Прощальный ужин" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прощальный ужин". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прощальный ужин" друзьям в соцсетях.