Вот и все. Римские каникулы кончились, принцесса вернулась домой.
Есть ли жизнь после Рима?
Мне потребовалась неделя, чтобы понять, что нет. Я ревела всю дорогу в самолете, и мама встретила меня испуганным вопросом, не заболела ли я. Наверное, я заболела. Я лежала в моей любимой, заваленной игрушками, книгами и милыми пустячками комнате, обнимала толстого медведя – мамин подарок на мои десять лет – и плакала. Мама приносила мне чай, кормила вкусностями, вздыхала, качала головой и с надеждой бормотала что-то про акклиматизацию и культурный шок. На второй день она спросила, не нужно ли вызвать врача. Тогда мне стало стыдно. Что это я, в самом деле? Маму пугаю, а ведь это благодаря ее подарку со мной случился Рим. Я выбралась из кровати, умылась и положила на лицо холодный компресс с петрушкой. Потом распаковала чемодан и достала сувениры, купленные еще в Римини. Маме понравились и духи, и сумка.
– А себе ты что купила? – спросила она, заглядывая в быстро пустеющий чемодан.
– Себе туфли, ты видела, я в них приехала, и вот. – Я выпятила грудь.
Мама осторожно потрогала кулон и сказала, что красивый, а я задержала дыхание и завела глаза к потолку, чтобы не разреветься.
Я не покупала этот кулон, у меня рука не поднялась бы, – он был дорогой – золото и разноцветное венецианское стекло. Золотая веревочка с редко нанизанными разноцветными шариками охватывала шею, потом были два шарика побольше, а на конце – сердечко. Стекло было удивительным – гладкое на ощупь, оно имело глубину и тяжесть драгоценного камня. Где-то там, в загадочных разноцветных глубинах подвески и шариков, мелькали цветы олеандров и цвет зеленых ставен и розовых домов, блеск фонтанов и прохлада Пантеона. Дим принес его на следующий день после той ночи, когда мы купались в фонтане. После ужина я ждала его, но он пропал, и я уже расстроилась, и в голову полезли грустные мысли, а потом дверь номера открылась, и он сказал:
– Я принес тебе подарок. Сам не знал бы, что купить. Как-то в этих ваших побрякушках я не очень разбираюсь. Но я видел, как ты на него смотрела.
Подвеску я увидела в магазинчике на плацца Навона. Эта площадь – как и весь Рим – вмещает в себя слишком много всего: культурные слои, исторические события, легенды, красоту и уродство. Когда-то здесь был стадион, и поэтому она овальная. Вот храм Святой Агнессы. Легенда рассказывает о том, как тринадцатилетнюю девочку-христианку язычники выставили на поругание, сорвав с нее одежду. И в тот же миг по воле Бога волосы девочки выросли почти до пят, скрыв ее наготу и явив милость Божию. Есть правда масса примеров, когда Бог не был так добр, и не очень понятно, почему бы это такое расположение проявил к конкретной девушке? Но так или иначе, храм красив, а легенда о его святой трогательна. Хотя мысль о том, что там, в прохладной крипте под старыми сводами, хранится голова девочки, наводит на меня страх.
А посреди площади царствует фонтан Четырех рек великого Бернини. Я долго ходила вокруг него, разглядывая мощные, экспрессивные фигуры, любуясь шедевром подлинного гения. Струи воды порождали призрачную надежду на прохладу, толпы туристов заметно поредели, должно быть, сказывался полуденный зной. Мы посидели в кафе, а потом, оставив разморенного Дима дремать за столиком над бокалом холодного вина, я пошла бродить по магазинчикам, выходящим на площадь. И в одном из них увидела это ожерелье. Там было много стекла, из объяснений хозяина на ломаном английском я поняла, что стекло это – венецианское. Тяжелое и гладкое, оно поражало яркими красками и глубиной. Я долго и с удовольствием мерила колечки, сережки и подвески, но все, что нравилось, стоило слишком дорого для моих скромных финансовых возможностей.
Я как раз красовалась перед зеркалом в этом самом колье, начисто позабыв и про жару, и про Дима, когда сзади раздался насмешливый голос:
– Идешь, копуша?
Я торопливо распрощалась с хозяином, который, казалось, ничуть не расстроился, что я ничего не купила, и весело помахал нам рукой, и мы тогда пошли дальше – по горячему асфальту, мимо сонно прикрытых ставней, купили мороженое – вкусное невероятно...
А потом Дим принес то самое колье, застегнул цепочку, поцеловал кулон, который холодил кожу – он сразу согрелся, – и сказал:
– Ты такая красивая. А теперь давай снимем все остальное – оно лишнее.
Хоть мама, кажется, и подумала, что подвеска – бижутерия, видно было, что вещь недешевая, и она решила, что я вбухала в нее все деньги. А деньги, честно сказать, остались... немного, но я решила – пусть пока полежат. В голове моей бродили неясные мысли о том, что надо бы эмигрировать, что я хочу опять увидеть Рим и хоть оставшихся денег не хватит даже на билеты, но если подкопить...
Мама успокоилась, видя, что я пришла в себя, не реву больше белугой, и после обеда убежала на работу. А я занялась стиркой, роняя слезы в тазик, где мокли мои маечки.
Звонок раздался вечером, и по прерывистому сигналу стало ясно, что это межгород. Черт, наверное, тетя Нина из Ярославля, а мамы нет.
– Алло. Тетя Нина! Мамы нет! – закричала я в трубку, зная, что тетка глуховата.
Сначала она не ответила, и я уже набрала в легкие побольше воздуха, а потом услышала мужской голос:
– Что ж ты так орешь?
– Извините, а кто это?
Голос не был похож на голос дяди Паши, мужа тети Нины, и я растерялась.
– Это я. Не узнала?
И тогда я его узнала и растерялась еще больше. Разговор получился бестолковый. Как-то мы оба не очень знали, о чем говорить. В конце он спросил, нет ли у меня аськи, потому что писать удобнее и дешевле, а я сказала, что компа нет вообще, поэтому вопрос с аськой не актуален.
Мама вернулась и опять поджала губы, глядя на мои покрасневшие глаза, а я захлюпала носом и честно-честно сказала, что это меня, наверное, продуло, потому что из жары да в наше лето, которое еще не согрелось, вот и засопела.
Мама с готовностью поверила, и мы пошли ужинать.
На следующий день заявился мой Андрей со товарищи, и мы компанией пошли во двор отмечать мой приезд. Август навешал на березки золотые листочки – не сегодня завтра они полетят, и асфальт покроется золотыми кругляшками. Это такая валюта осени, очень устойчивая, – каждый год они падают, но никогда не кончаются. Меня знобило – то ли после римской жары, то ли еще от чего, я куталась в куртку и вяло рассказывала про поездку, вспоминая всякие дурацкие и смешные случаи, потому что не рассказывать же про архитектуру и Сикстинскую капеллу, решат, что я выпендриваюсь. И про Дима нельзя рассказать... Вот и пришлось травить байки, услышанные от экскурсовода. Потом Андрей шепнул мне, что соскучился и давай пойдем ко мне – предки на даче.
А я отказалась. Соврала, что у меня месячные, и ушла домой.
Дим позвонил через день, а потом еще через день, и теперь мы могли разговаривать, хоть и не без неловких пауз. А потом я разозлилась и, когда раздался звонок – межгород, – не взяла трубку. Нет меня дома, и все. Я смотрела на телефон, плакала и думала: зачем он это делает? Зачем каждый раз напоминает о том, чего у меня больше нет? Идут дни, и я могла бы уже успокоиться и начать думать о своем парне, который, обидевшись, умотал вчера на дачу, а девчонки мне рассказали по секрету, что он там гулял с Наташкой, пока меня не было. Подумаешь, с Наташкой – знаю я эту выдру крашеную! Да она мне в подметки не годится. Вот сейчас сяду на электричку и вечером же объясню ей, чей это парень. Да он сам назад прибежит, потому что я лучше Наташки! В запале я даже схватилась за сумку и покидала туда какие-то вещички, но потом одумалась. А ведь тогда мне сегодня же придется с ним спать. Почему-то эта мысль меня не радовала. Андрей неплохой парень и всегда помнил обо мне и старался, чтобы мне было хорошо, но... но теперь мне глупо и по-детски казалось, что я что-то испорчу, разрушу, если лягу с ним в постель. Стоп, это что же, я теперь буду как возлюбленная графа Резанова из «Юноны» и «Авось»? Как там ее звали? Что-то такое испанское – Мария Кончита... Но граф хоть обещал вернуться, а этот? Он мне ничего не обещал. Только вот звонит и рвет душу. И я слоняюсь по дому и жду его звонков, вместо того чтобы искать работу и думать о том, как жить дальше.
Мама застала меня в прихожей, сидящей на сумке и погруженной в глубокую задумчивость. Зазвонил телефон, я схватила трубку и ушла в свою комнату.
За ужином мама осторожно спросила, кто это был, и я, отведя глаза, ответила:
– Знакомый.
– Значит, вот почему ты так ревела, – подытожила мудрая мама. – И как его зовут?
– Дим. Дмитрий.
Мама вошла в роль Мюллера и принялась меня допрашивать. Я вяло отбрыкивалась. Чего тут рассказывать-то? Ну, подружились (мамины брови взлетели птичками, но сдержанность и уважение к моей взрослости – замечательная у меня мама – не позволили ей откомментировать этот милый детский глагол, хоть уши у меня все равно вспыхнули от стыда за собственную глупость.)
Я ускреблась к себе и вновь погрузилась в раздумья, которые были прерваны маминым приходом. Итогом их стал простой вывод: тоска моя проистекает не столько от разлуки с Римом, сколько от разлуки с Димом, который к тому же (гад) звонит и бередит душу. А значит, единственный способ от этой тоски вылечиться – оказаться рядом с ним и убедиться, что он мне совершенно не подходит. И тогда останется тоска по Риму, до которого опять же намного удобнее добираться из Москвы.
Не могу сказать, что мне прямо так полегчало, потому что маму было жалко – она расстроится, если я уеду. Еще было страшно – как я там буду. Но мысль, что я буду там, вызывала внутри веселую чесотку, от которой расхотелось плакать и захотелось действовать.
Я взяла телефон и позвонила подружке в Москву.
Трубку снял мужик, и я, бросив взгляд на часы, решила, что меня сейчас пошлют, но все же жалобно пролепетала, что если можно услышать Свету... К удивлению моему, мужик безропотно буркнул:
– Сейчас, – и в трубке захрюкало, а потом раздался голос Светки:
– Слушаю.
– Ты не спишь?
– Уже нет. Что случилось?
– Мне нужно приехать в Москву.
– Ты здорова?
– Да, но мне очень нужно.
– Мужик?
– Э-э, ну да.
– Ага. Жить у него будешь?
– Нет, он, понимаешь...
– Тогда у меня. Когда тебя встречать?
– Я пока не знаю...
– Тогда какого черта ты мне звонишь ночью, чучело? Я легла час назад и вставать мне через два. Позвони, как билет купишь. Все, целую.
Я люблю Светку, она всегда все понимает и не задает лишних вопросов. Успокоенная, я легко уснула, чуть ли не первый раз после возвращения из Рима.
И снился мне сон.
Я иду по Риму, конечно, где же еще я должна быть? Это самый чудесный город на свете, город-мечта, город-жизнь. Только вот почему я одна? Но во сне есть стойкое ощущение, что так надо и сейчас случится нечто, предназначенное для меня. Место кажется смутно знакомым, и вдруг я понимаю, что улица привела меня к церкви Санта-Мария. Я вздрогнула: когда мы с Димом гуляли, я заставила его тащиться по самой жаре, только чтобы найти это место. Здесь, под сводом церкви, находятся Уста истины. Помню, еще когда я смотрела фильм «Римские каникулы», эта штука заинтриговала меня чрезвычайно. И вот он снова перед глазами: старый, треснутый круг барельефа, лицо-маска и открытый рот, в который надо вложить ладонь и поклясться... или правдиво ответить на вопрос. Только правдиво, потому что, если солгать, уста сомкнутся и лжец или клятвопреступник останется без руки. К моему удивлению, подле церкви не было ни одного туриста – то ли от жары все попрятались, то ли место не так популярно, как Колизей, где не пропихнуться в любую погоду. Но мы с Димом торчали возле барельефа вдвоем, не спеша покидать относительно прохладный портик. Несуеверный программер сунул руку в отверстые уста и принялся подначивать меня: «Ну, давай спроси... ну?» А я как-то растерялась и не знала, что спрашивать. Единственный вопрос, пришедший мне в голову «Ты меня любишь?», я мудро решила не озвучивать – не время. А сама я почему-то испугалась, так и не вложила пальцы в темную щель. И вот теперь, во сне, я опять стою в прохладном портике, смотрю на незрячее лицо барельефа, и мне жутко, страшно, но нужно, нужно рискнуть, вот только не соврать бы, отвечая на вопрос... И тут до меня доходит: раз я одна, то кто же будет спрашивать? Некому. Расстроенная, я отворачиваюсь от несостоявшегося испытания и вхожу под своды церкви. Там очень красивые росписи, мы тогда толком не могли их осмотреть, потому что шла реставрация, но сейчас леса убраны, и я с восхищением смотрю на Богоматерь. Она так женственна и прекрасна. И вдруг краем глаза улавливаю движение где-то сбоку. Там сидит седой старик, наверное, кто-то из евангелистов. Он смотрит прямо на меня и укоризненно качает головой. А потом говорит:
– Как это некому спрашивать? Вот сама себя и спроси!
Я проснулась с чувством удивления и неудовлетворенности. Словно глупо получила двойку в школе. Ну и к чему бы это все, а?

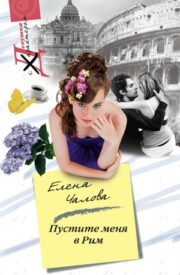
"Пустите меня в Рим" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пустите меня в Рим". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пустите меня в Рим" друзьям в соцсетях.