Едва успев договорить, он погрузился в сон.
Несмотря на усталость, Пег оправила мужу ночную рубашку, а затем одернула свою, ощупав влажное пятно на простыне. «Какая досада, что мать и отец храпят, — подумала она. — Ричард не храпит, и я тоже, как уверяет он. Но с другой стороны, если они храпят — значит, спят и ничего не слышат. Спасибо тебе, Господи, за заботу о моем мальчике. Знаю, он так послушен, что ты наверняка не прочь забрать его на небеса, но ему найдется место и на земле, так пусть он попытает удачу. Но почему, Господи, мне кажется, что у меня больше никогда не будет детей?»
Пег и вправду так казалось, и эти мысли были мучительными. Целых три года она ждала первой беременности, затем прошло еще три года, прежде чем она забеременела во второй раз. И дело было вовсе не в том, что она с трудом вынашивала детей, мучилась тошнотой или судорогами. Просто сердце подсказывало Пег, что ее чрево утратило плодовитость. Ричард ни в чем не виноват. Стоило ей бросить в его сторону призывный взгляд, он охотно принимал предложение и никогда не разочаровывал ее в постели — за исключением тех случаев, когда бывал болен ребенок. Какой внимательный и добрый возлюбленный, заботливый и любящий муж! Собственные удовольствия и желания значили для него гораздо меньше, чем потребности близких — особенно Пег и Уильяма Генри. И Мэри. Слезы заструились по щекам Пег и закапали на подушку все быстрее и быстрее. «Дети не должны умирать раньше своих родителей. Это нечестно, несправедливо. Мне всего двадцать пять лет, а Ричарду — двадцать семь, — думала Пег. — Но мы уже потеряли своего первенца, и как же мне недостаёт его! Как я тоскую по дочери!»
Выплакавшись и начиная засыпать, Пег решила завтра же отправиться на кладбище у церкви Святого Иакова и положить цветы на могилу Мэри. Скоро наступит зима, когда цветов уже не найти.
Наступила зима — привычные для Бристоля туманы, изморось, сырой холод, пробирающий до костей; не скованные льдом, который зачастую брал в объятия Темзу и другие реки Восточной Англии, воды Эйвона поднимались на тридцать футов и опять опускались так же ритмично и предсказуемо, как летом.
До Бристоля доходили вести о войне в тринадцати колониях, даже те, о которых не сообщали газеты. Генерал Томас Гейдж покинул пост главнокомандующего армии его величества короля Великобритании, его место занял сэр Уильям Хоу.[4] Поговаривали, что мятежный Континентальный конгресс[5] обратился к французам, испанцам и голландцам за помощью и деньгами. Ожидалось, что король отомстит бунтарям: на святки парламент запретил торговлю с тринадцатью колониями и объявил, что Англия слагает с себя обязанность защищать их. Эти вести повергли Бристоль в смятение.
Среди влиятельных бристольцев насчитывалось немало тех, кто жаждал мира любой ценой и был готов удовлетворить любые требования американских мятежников; находились и такие, кто сурово обличал мятежников, но мечтал укрепить могущество Британской империи, опасаясь, что, если побережье Англии длиной в тысячу миль останется незащищенным, французы вернутся вместе с испанцами; были и те, кто негодовал, проклинал мятежников, называл их предателями, которых давно пора четвертовать и повесить, и не желал слышать даже о малейших уступках. Естественно, последние пользовались особым влиянием среди прихожан местных церквей, но, какого бы мнения ни придерживались состоятельные горожане, все они предрекали беду, собравшись в гостиных лучших домов, и впадали в мрачную задумчивость над портвейном и черепаховым супом в «Белом льве», «Кусте» и «Плюмаже».
Помимо тонкой прослойки влиятельных бристольцев, существовал обширный слой горожан, которые знали только, что найти работу становится все труднее, что все больше кораблей подолгу простаивают на якоре в порту, что давно прошли те времена, когда можно было бастовать, требуя грошовой прибавки к жалованью. Поскольку парламент умел тратить деньги, но отнюдь не раздавать их нуждающимся, заботы о растущем числе безработных легли на состоятельных прихожан — при условии, что они действительно прихожане, внесенные в церковные книги. Каждый безработный прихожанин получал по семь фунтов в год из суммы, собранной корпорацией, — на эти деньги и жили бедняки.
В некотором отношении Бристоль отличался от всех английских городов — по причине, которую не так-то легко объяснить. Его высшие классы питали необычную склонность к филантропии — как при жизни, так и после смерти. Вероятно, причина заключалась в том, что богадельни, дома призрения, больницы и школы называли в честь тех, кто жертвовал на них средства, и таким образом благодетели обретали своего рода бессмертие, даже если не могли похвастаться аристократическим происхождением. В том, что касалось происхождения и родословных, высшие классы Бристоля отличала полная посредственность. Лорд Клер, бывший школьный учитель Роберт Наджент, стал образцом дворянина, какого было только способно породить высшее общество Бристоля. Могущество Бристоля прочно опиралось на алтарь Маммоны.
Итак, тысяча семьсот семьдесят шестой год наступил подобно зловещей тени, видимой лишь краем глаза. К тому времени все сошлись во мнении, что королевские армия и флот растопчут последние угли революции в Нью-Гемпшире и Джорджии. Но о славной победе было что-то не слыхать, хотя все, кто умел читать — а они считались образованными людьми, — то и дело собирались на постоялых дворах, ожидая приезда лондонского дилижанса, привозящего газеты и журналы.
Хозяевам и посетителям «Герба бочара» тоже пришлось потуже затягивать пояса и с горечью убеждаться в том, что с каждой неделей число завсегдатаев неуклонно уменьшается. Но вместе с тем сокращались и расходы: Мэг приходилось реже стряпать, Пег приносила меньше хлеба от булочника Дженкинза, а Дик покупал больше кислого дешевого вина, чем густого ароматного рома, изготовленного самим мистером Кейвом.
— Я никого не хочу обидеть, — заявила Пег однажды январским днем, когда из-за снегопада приток посетителей в «Герб бочара» резко сократился, — но наверняка некоторым горожанам не пришлось бы голодать, если бы они пили поменьше.
Дик метнул в Ричарда выразительный взгляд, но промолчал.
— Дорогая, — произнес Ричард, забирая у матери Уильяма Генри, — так уж устроен мир, именно поэтому не приходится голодать нам. Давай не будем об этом, чтобы ненароком кого-нибудь не оскорбить. Мужчины и женщины вольны сами выбирать, чем наполнить желудок. Некоторым и жизнь не в радость без ежедневной полупинты рома или джина, а кое-кто так страдает, что совсем не может обойтись без спиртного. — Он пожал плечами, взъерошил темные кудряшки Уильяма Генри и улыбнулся, глядя в удивленные глаза сына. — У каждого своя боль, Пег.
Наступил январь, а число кораблей, стоящих у причалов, не уменьшилось. Сочувствие к мятежникам давно вытеснили горечь и раздражение. «Юнион-клуб» на постоялом дворе «Куст», некогда осаждавший короля петициями с требованием прекратить облагать налогами колонии и управлять ими издалека, хранил гробовое молчание; в «Белом льве» тори разглагольствовали все громче, уверяли короля в преданности и поддержке, собирали средства на экипировку местных войск и пытались разузнать о двух членах парламента от партии вигов и Бристоля — ирландце Эдмунде Берке и американце Генри Крюгере.
«Общество непоколебимых» утверждало, что за год войны Бристоль успел истечь кровью, тем более что виги в парламенте представлены красноречивым ирландцем и немногословным американцем. Настроения резко переменились, горожане пали духом. Пора покончить с войной в стране, расположенной за три тысячи миль от родины, старые связи изжили себя, пора заняться новыми делами, причем как подобает! И пусть мятежники катятся ко всем чертям!
Ночью шестнадцатого января, во время отлива, кто-то поджег корабль «Саванна Ла-Мар», готовый отправиться с грузом на Ямайку, а покамест стоящий у большого причала, неподалеку от гавани Старого Ника. Судно обмазали смолой, маслом и скипидаром, и спасти его удалось только чудом; к тому времени, как двое городских пожарных прибыли с сорокагаллонной бочкой воды, несколько сотен матросов и портовых рабочих уже потушили пламя, к счастью, не успевшее нанести кораблю серьезный ущерб.
Утром портовые власти и полиция обнаружили, что корабли «Слава» и «Гиберния», стоящие к югу и к северу от «Саванны Ла-Мар», тоже были обмазаны горючими веществами и подожжены. Непостижимым образом оба судна не загорелись.
— Измена в Бристоле! Мог загореться весь порт, доки, а затем и город! — взволнованно объявил Дик Ричарду, едва вернувшись с пристани, где произошел поджог. — Да еще во время отлива! Ничто не могло помешать пламени перекинуться на соседние суда. Господи, Ричард, это было бы страшнее большого лондонского пожара! — И он вздрогнул.
В то время люди ничего не боялись сильнее, чем огня. Даже углекопы из Кингсвуда не внушали такого ужаса — разъяренная толпа представляла меньшую опасность, чем пожар. Толпы состояли из мужчин и женщин, волокущих за собой детей, а огонь направляла могущественная десница Бога, он вел прямиком к вратам ада.
Восемнадцатого января мертвенно-бледный кузен Джеймс-аптекарь привел плачущую жену и детей к Дику Моргану.
— Ты не мог бы приютить Энн и девочек? — с дрожью спросил Джеймс. — Я никак не могу убедить их, что в нашем доме им ничто не угрожает.
— Боже милостивый, Джим, в чем дело?
— Пожар, — выдохнул аптекарь и схватился за стойку, чтобы не упасть.
— Вот, возьми. — Ричард протянул ему кружку лучшего рома, а Мэг и Пег захлопотали вокруг Энн и перепуганных детей.
— Дай выпить и ей, — велел Дик. Мистер Джеймс Тислтуэйт бросил перо и подошел поближе. — Ну, рассказывай, Джим.
Потребовалась целая четверть пинты рома, чтобы кузен Джеймс-аптекарь вновь обрел дар речи.
— Посреди ночи кто-то взломал дверь моего большого склада — а ты ведь знаешь, Дик, как она прочна, сколько на ней замков и засовов! Злоумышленник разыскал скипидар, облил им большой ящик и наполнил его паклей, опять-таки вымоченной в скипидаре. А потом ящик прислонили к бочонкам с льняным маслом и подожгли. Разумеется, в то время на складе никого не было. Никто не видел поджигателя, никто не заметил, как он исчез.
— Ничего не понимаю! — вскричал Дик, побелев, как его кузен. — Отсюда недалеко до угла Белл-лейн, но клянусь тебе, мы не слышали ни звука, ничего не видели и не почуяли запаха гари!
— Ящик не загорелся, — странным тоном отозвался кузен Джеймс-аптекарь. — Слышишь, Дик, не загорелся! А он должен был вспыхнуть! Придя утром на склад, я нашел его. Сначала я думал, что дверь взломал тот, кто нуждался в опиатах или других лекарствах, но едва вошел, как почуял запах скипидара. — Голубовато-серые глаза Моргана блеснули при этом воспоминании. — Это чудо! — воскликнул он. — Чудо! Бог спас меня, и я непременно пожертвую церкви Святого Иакова тысячу фунтов для бедняков!
Эти слова произвели впечатление даже на мистера Тислтуэйта.
— Я был бы счастлив написать панегирик, кузен Джеймс, и воспеть тебя в печати. — Он нахмурился. — Но я чувствую, в Бристоле что-то назревает, — это несомненно. И «Саванна Ла-Мар», и «Гиберция», и «Слава» принадлежат американской компании «Льюсли», а их контора расположена по соседству с твоим домом, на Белл-лейн. Вероятно, поджигатель ошибся дверью. На твоем месте я сообщил бы об этом хозяевам «Льюсли». Тори явно сговорились выжить американцев из Бристоля.
— Ты во всем видишь происки тори, Джимми, — с улыбкой вмешался Ричард.
— Так или иначе, тори — презренные трусы. — Мистер Тислтуэйт опять уселся за стол, иронически закатывая глаза при виде женской истерики. — Лучше бы ты выпроводил их домой, Дик. Оставь здесь Ричарда с одним из моих пистолетов — вот, возьми, Ричард! Я сумею защититься и одним. Но мне совершенно необходима тишина. Меня посетила муза, у меня появилась тема для нового панегирика.
Никто не обратил на его слова никакого внимания, но когда таверну начали заполнять посетители, пришедшие на обед, а град вопросов о том, что же все-таки произошло на складе Моргана, усилился, Ричард решил последовать совету мистера Тислтуэйта. Сунув в один карман пальто кавалерийский пистолет, а в другой — десяток картонных гильз, он проводил Энн Морган и ее двух дурнушек дочерей в элегантный особняк, расположенный в Сент-Джеймс-Бартон. Там Ричард устроился на стуле в прихожей, чтобы одним своим видом отпугивать поджигателей.
За каких-нибудь два дня, с четверга до субботы, весь Бристоль охватили беспомощность и паника. Сторожа и заново назначенные констебли рьяно взялись за исполнение своих обязанностей; уже в пять часов дня зажигали фонари на тех улицах, где они имелись; фонарщики суетились с лестницами, наполняя резервуары фонарей, чем прежде они занимались крайне редко. Люди рано расходились по домам, горько сожалея о том, что стоит зима и над городом витает запах древесного дыма. В ночь на субботу в городе почти никто не спал.

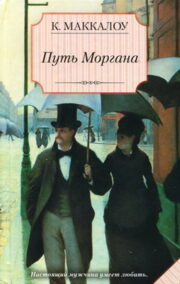
"Путь Моргана" отзывы
Отзывы читателей о книге "Путь Моргана". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Путь Моргана" друзьям в соцсетях.