— Ты говоришь о плате. Нет, этого было бы мало! Судьба дает и тут же отнимает. Вот! Вот!!! — Авель-Мардук стиснул в кулак папирус и потряс им перед лицом Идина. — Вот! И это плата тоже! Жрецы готовят переворот. Династия, при которой Вавилон возвысился и стал процветающим городом, им неугодна. Все, чему служили мой отец и дед, им противно. Конечно! Они и под Ассирией неплохо жили. Подлецы!
Он бросил на стол папирус. Немного успокоился. Поправил платье. Его черные глаза горели гневом. Идин любил этот пронзительный взгляд, этого человека, ради которого неоднократно шел на смерть.
— Отец пишет, что считает своим долгом защитить меня, не дать расползтись гнили по всей стране. Но я знаю, он не пойдет на крайние меры, не поднимет руку на жрецов. Это должен сделать я, — принц положил руку на плечо друга. — Ты — мой соратник и брат. Ты-то знаешь, что я прав.
— Знаю, — кивнул Идин. Авель-Мардук улыбнулся.
— Наместник Хаттушаша понял, 'что шансов нет, он оказался не глупцом, что ж, это приятно. Хоть Хаттушаш и открыл ворота, город грабить не позволяю. Ни один кусочек серебра не должен пропасть, не должен быть разбит ни один горшок. Пусть побежденные прославляют щедрость Вавилона! Но мелкие города и селения, что попадутся на пути, — добыча воинов. Отметим победу и выпьем за скорое возвращение в прекрасный город, брат.
Авель — Мардук направился к столику, стоявшему отдельно. Круглые кувшины Междуречья соседствовали с изящными сосудами из Сирии и амфорами с Крита. Принц налил неразбавленного вина в две чаши, одну протянул Идину.
— Выступаем сегодня вечером. Пойдем быстро. Утром будем у Галиса. Нужно поскорее возвращаться, брат. Я должен быть с отцом.
Адапа проснулся оттого, что какой-то шум доносился снизу, из-под пола. Шум не затихал и не усиливался, он звучал монотонно и слаженно, точно гудение пчелиного роя, и только глиняная свистулька звучала глухо и грустно, хотя играющий пытался изобразить веселую мелодию.
Он открыл глаза. В комнате было темно. На столе стояла лампа, уже горевшая еле-еле. Она не могла дать света этому крохотному миру, ограниченному с четырех сторон, лишь красно-золотая аура мерцала в сумраке. Это был теплый сумрак, фиолетовый, с капелькой белил и краплаком в густых, клубящихся углах. Ламассатум спала, разметав черные, пряные волосы.
Сознание Адапы просыпалось медленно и сладко, разворачивая пестрые, измятые крылья. Воспоминание о том, что он пережил здесь, в этой комнате, с этой девушкой, взволновало его. И, улыбающийся, голый, он потянулся к ней. Кожа ее была так нежна, что даже легкие прикосновения оставляли на ней светло-коричневые пятна. Два маленьких холмика — ее груди — в ложных, пугливых отсветах лампы едва-едва поднимались и опускались. Дышала она бесшумно.
Адапа стал целовать ее медленными поцелуями, боясь разбудить, и желая, чтобы она проснулась. Он не хотел думать ни о чем: ни о том, что было до нее, ни о том, что будет потом, ни о том даже, что было между ними. И любовь ли это? Он боялся потерять, спугнуть этот волшебный миг, краткость которого он осознавал и который пытался удержать, продлить, выпить без остатка, оставить где-то вот здесь, у сердца. Он вдруг стал суеверным, говорил ей обо всем шепотом, и даже теперь, когда она спала, говорил с нею в своих мыслях. Адапа считал себя человеком мужественным, но теперь, обретя Ламассатум, он слабел. Вдруг Адапа с ужасом поймал себя на желании заплакать.
Ламассатум открыла глаза.
— Что ты делаешь? — прошептала она с улыбкой.
— Стараюсь не забыть вкус твоего поцелуя, — пошутил он.
— Ах ты, хитрец! — Она хлопнула его ладошкой по плечу. Звук получился звонкий, и они рассмеялись.
Они обнимались в этой случайной постели, Адапа твердил себе: «Не смогу… Не смогу — что?» Покрывала, густой жаркий воздух, весь мир пахли ею. Она не была невинна, но и искушенной в плотских утехах тоже не была. Она льнула к нему, охватывала всем телом, целовала воспаленными губами.
«Не смогу расстаться с ней…» Сердце Адапы колотилось. Он уже не слышал ничего, даже себя, лишь ее протяжные стоны, от которых сходил с ума.
Потом они лежали молча, и лампа догорела.
Набу-лишир ехал в неповоротливой повозке со скрипящим ободом. Солнце палило, и, кажется, по всему городу, куда ни сунься, стоял этот пряный, застенчивый, тревожный запах брошенных на мостовые и раздавленных цветов. Судье это было не так уж неприятно, но вызывало из потаенных уголков его памяти образ рано ушедшей в подземное царство жены. Запах увядающих цветов почему-то всегда будил одно и то же воспоминание.
Это случилось однажды, а потом много, много раз, его невеста, супруга, мать Адапы, некрасивая, романтичная девушка, подарила ему цветы, завезенные с севера, с такими толстыми стеблями. «Я люблю, знаешь, вот эти стебли, когда они скрипят…»
Поступки жены его удивляли. Это потом он разглядел ее красоту, но всю ее, до самого дна, так и не смог. Нупта была загадкой.
Колесо угодило в выбоину. Повозку тряхнуло. Набу-лишир дернул головой. Боже, боже, неужто задремал, прямо на солнцепеке, посреди вопящей улицы. Он сердито кашлянул, оправил платье. Краткий сон отозвался горечью во рту и головной болью. Колесный обод скрипел. Судья стиснул зубы.
Он въехал во двор собственного дома и, почти не разжимая губ, спросил у подбежавшего слуги: — Молодой господин вернулся?
— Нет, его не было, господин, — отозвался невольник, бывший кочевник, подставляя плечо судье.
Бормоча проклятия, Набу-лишир вошел в дом. Поведение сына ему не нравилось. Он, конечно, допускал, что предстоящие перемены в жизни могли выбить мальчишку из колеи. Но коль скоро этот вопрос решен, ему следует принять это как данность. Вместо того чтобы возблагодарить отца и небо, он ведет себя… Как именно сын себя ведет, Набу-лишир объяснить затруднился. Адапа — взрослый юноша, да и что невероятного в том, что в дни новогодних празднеств он веселится? Все бы ничего, если бы не взгляд сына, слепой, малярийный, который порой Набу-лишир ловил на себе, в блеске своего кольца, филиграни серебряных чаш — бессознательный взгляд человека, потерявшего привычную почву.
В рабочей комнате он подошел к столу. В глаза бросился развернутый папирус. Это было письмо Иштар-умми к нему, ее будущему свекру. Она интересуется Адапой, его характером, привычками и склонностями. Набу-лишир был поражен. Он считал подобный поступок недопустимым. Так запросто писать к нему! Никакого почтения! Иштар-умми избалованный ребенок, начисто лишенный скромности, как она могла решиться на такое? Сказать ее отцу? Пожалуй, не надо. Кто их разберет? Все точно с ума посходили. Набу-лишир протянул «м-да», свернул папирус и засунул под таблички.
Почему два дня назад, за завтраком, перебрасываясь с Адапой фразами, он решил, что мальчишка влюблен? Причем влюблен отнюдь не в свою невесту. Объяснений этому не было. Как не было и доказательств. Но почему-то Набу-лишир думал, что не ошибается, и что увлечение сына никому не принесет счастья.
— Была бы здесь Нупта, — вслух сказал он. — Уж она бы ему мозги быстро вправила.
Адапа любил только ее. Как и Набу-лишир. Но Нупты не было. Никогда не будет. Никогда.
Глава 21. ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ
Колпак ночи был к лицу Вавилону. Высыпали звезды. Сил у жрицы хватало лишь на воспоминание об Уту-ане. Она всегда любила его, но раньше так о нем не тосковала. Анту-умми стояла на террасе, сложив на груди руки, и вглядывалась в мигающие глаза ночи. Покои Варад-Сина размещались на верхних уровнях, выше внешней стены храма, и отсюда кварталы Вавилона были как на ладони — тысячи красных огней.
«О, Вавилон! — Она тяжело и горестно вздохнула. — Завтра я покину твои пределы. Мой бог пойдет на запад, и я устремлюсь за ним, оставив за спиной твою синюю реку. Вавилон, город мечты».
Теперь жрица думала о возвращении в Борсиппу, о слепых улицах, и пене садов уютного городка. Ее красивые руки лежали на каменном парапете, и вся она походила на изваяние великой матери-богини.
Ее ладонь накрыла чья-то рука. Анту-умми вздрогнула — рука Варад-Сина. Он забрал в горсть ее пальцы; ладонь его была горячей и влажной.
— Куда ты смотришь? — прошептал он.
— Туда, — она указала подбородком на отдаленные огни.
— Да? И кто же там?
Анту-умми слегка отстранилась, — его дыхание обжигало шею. Невнятное чувство, томившее ее все эти дни, наконец, округлилось, приобрело завершенные черты — чувство брезгливости.
— Там рай, куда я стремилась. Место обманутых надежд. Он смотрит на меня тысячами глаз, каждый камень, каждая собака смеются надо мной!
Анту-умми напряглась и почувствовала, как он стиснул ее руку. Время от времени в темноте вскрикивали павлины, как заблудшие души.
— Ш-ш-ш, — услышала она успокаивающее, змеиное шипение Варад-Сина. — Откуда это настроение, милая?
Свободной рукой жрец убрал прядь ее волос, обнажая плавный изгиб шеи.
Поцелуй был похож на удар бича. Анту-умми резко повернулась. Теперь она стояла лицом к Варад-Сину, прижимаясь спиной к парапету, ощущая позвонками твердость и насмешливое тепло камня. Злоба закипала в ней, но усилием воли она сдерживала себя. «Враг, ты мой враг!» — твердила она про себя, и от внезапного осознания этой истины почувствовала, как незримый камень свалился с ее плеч.
— У нас был договор, — глаза Анту-умми сузились. Она смотрела на Варад-Сина точно из тумана, сквозь алую дымку гнева. — Ты не можешь упрекнуть меня в его несоблюдении.
Варад-Син рассмеялся, показывая ряд крупных зубов.
— Почему ты так холодна, милая? Я не узнаю тебя. Посмотри вокруг, Анту-умми, посмотри, какой чудесный вечер! Вавилон смотрит на тебя.
— Утром я уезжаю, — возразила жрица.
— Можно ли уйти отсюда по своей воле? Во всем мире не найдется города под стать этому. Великая башня поднялась до самых звезд, нет числа храмам, чья роскошь соперничает с роскошью дворцов. — Анту-умми молчала. — Сады парят в небе, и вырастают горы сокровищ.
Варад-Син погладил ее по щеке. Анту-умми осталась безучастной.
— Ты уезжаешь, — жрец перестал улыбаться, в его голосе женщине почудилось сожаление. — Что ж, на все воля богов.
— Ты смеешься надо мной, верховный жрец? — после тяжелого молчания произнесла Анту-умми.
Она спрятала за спину руки, чтобы Варад-Син не увидел ее стиснутых кулаков. — Настала пора соблюсти условия. Я не видела документа, назначающего моего сына в Вавилон, а между тем…
— Да, да, милая, знаю, — он постукивал указательным пальцем по губам, точно призывая Анту-умми к молчанию.
Она поняла, что все пропало, ничего не будет, что еженощные пытки на стариковском ложе оказались лишь омерзительной гримасой судьбы. Ей хотелось закричать, обвинить его в вероломстве, плюнуть в эти лишенные блеска глаза под складками век. Но выглядела она спокойной. Ее угнетало даже не столько то, что бывшее в этой комнате станет преследовать ее в любой день, на любом углу, — страшно было проигрывать.
— Красивая женщина. Почему ты так неосмотрительна? Мы все — смертные, бедняки перед лицом богов, наши желания затмевают наш разум. И ничего с этим поделать нельзя, ничего, милая.
Варад-Син касался ее лица, очерчивая контуры теплыми, слегка шершавыми пальцами с сумрачным блеском драгоценностей, такими же смутными и дрожащими, как ее сердце, ее обморочная душа. Анту-умми не сняла еще с себя праздничного облачения, ее платье под глубокими складками скрывало стройное тело, на груди лежал венок из розовых лилий, едва узнаваемым ароматом орошая воздух вокруг ее головы.
Ночь путалась в горячие шелка жасмина и сандала, обмершие лилии льнули к ее коже в жемчужной испарине — последняя улыбка исчезающей красоты.
— Но человек без желаний мертв, ибо желания движут нами, страсть к завоеванию. — Жрец прикоснулся сухими губами к ее виску. — Желания людей не всегда совпадают, и тогда в игру вступают иные правила. Всегда каждый старается только ради себя. Хочешь, поговорим об этом на ложе?
Анту-умми не успела ответить. Раздался приглушенный стук сандалий. Варад-Син повернулся, закрывая ее собой. Это была излишняя предосторожность, она и сама не желала, чтобы ее видели здесь. Прикрыв лицо тонким покрывалом, она попятилась, шаг за шагом отдаляясь от жидкого круга света, падающего изнутри на черно-белый мозаичный пол. Тьма принимала ее в свой разлом, свои глубины, где таяло даже это жалкое свечение огней, горящих во дворе в огромных медных чашах. Анту-умми неслышно скользнула за плотный занавес в одной из арок.
Человек вошел на террасу и медленно двинулся к Варад-Сину, который, заложив за спину руки и покачиваясь с мыска на пятку, ожидал его. Это был жрец храма Иштар, высокий человек с широкими плечами, еще достаточно молодой, что чувствовалось по твердости шага. Одежда посетителя была проста, если не сказать больше: серый плащ скрывал руки, а капюшон — лицо. Он отличался способностью к мимикрии и любовью к шумерской культуре, звали его Нинурта. В тот краткий миг, когда, появившись на террасе, он стал спиной к свету и вокруг его черной непроницаемой фигуры засветилась аура, Варад-Син отвел глаза. Очень уж внушительным показался ему Нинурта, и это было неприятно верховному жрецу.

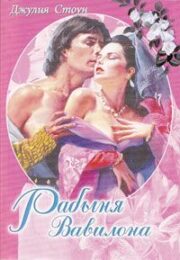
"Рабыня Вавилона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рабыня Вавилона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рабыня Вавилона" друзьям в соцсетях.