Итак, я, страстно желавший настигнуть зайца своего подозрения, добежал до лагеря и, показывая тем, кто меня останавливал, свою лютню и уверяя их, что иду играть и петь для короля Англии, сумел пробраться в его шатер. Короля там не было, и, оглядевшись, я понял, что это не такое место, где можно заниматься тайными интрижками. Это был большой шатер, основную часть которого занимало некое подобие залы в замке. Если Ричард Английский и забавлялся с племянницей Танкреда, то не здесь.
Заканчивался ужин. Несколько опоздавших все еще сидели за дощатыми столами на козлах, а те, кто уже наелся, не торопясь потягивали вино, наблюдая за гонкой собак, затеянной на пари двумя молодыми рыцарями. Один, сильно подвыпивший, покачиваясь, встал и запел похабную песенку, с энтузиазмом подхваченную слушателями, добавляющими к ней собственные непристойности.
Моя лютня, как всегда, была встречена с восторгом. Какой-то невозмутимо-сдержанный оруженосец оторвался от огромной кости, которую обгладывал, и ударил ею по столу.
— Теперь послушаем настоящую музыку! — воскликнул он.
Тот, который пел, запротестовал, откровенно выразив свое мнение на этот счет. Оруженосец поднялся на ноги и беззлобно отвесил ему оглушительный удар, а потом, схватив поперек туловища, как мешок, попытался выбросить из шатра. В этом ему помогли остальные. Обе собаки с лаем прыгали вокруг них, добавляя беспорядка и шума.
— Играй, Бога ради, — шепнул кто-то мне в ухо, — иначе они передерутся, а драка между своими — единственное, чего не терпит король.
И я заиграл так громко, насколько было возможно, выбрав песню, которая — в чем я убедился в Англии — была здесь очень популярна. Все англичане, находившиеся в шатре, громко подхватили строки «Это было ясным майским утром», со свойственной им смесью сентиментальности и похабства. К ним присоединились французы, подпевая или же отбивая такт руками по столу. Собаки притихли.
Повторяя куплеты и затягивая музыкальные паузы, я постарался как можно дольше не кончать песню, понимая, что не располагаю ничем другим, что могло бы им так же понравиться. Но в конце концов мне пришлось закончить пение.
Раздались аплодисменты, которые перекрыл громкий голос:
— Приятно видеть компанию в таком прекрасном настроении.
Все вскочили на ноги, повернувшись лицом ко входу в шатер.
Я встречал Ричарда Плантагенета, герцога Аквитанского и короля Англии, раньше, при обстоятельствах, не имеющих отношения к моему повествованию. Я впервые увидел его в слабо освещенной передней Башни Вильгельма, в Лондоне, и именно там мои ревнивые глаза разглядели его лицо и фигуру, красота и грация которых так подействовали на миледи, что она полюбила его тс первого взгляда. Ни того ни другого я не находил в нем ни тогда, ни в этот вечер.
Он, разумеется, был высоким мужчиной, с широкими плечами и узкими бедрами, но ноги его были слегка кривыми оттого, что он много времени проводил в седле, а мускулы на руках были такими выпуклыми, что руки выглядели неуклюжими. Христос однажды исцелил человека, слепого от рождения, и тот, впервые увидев своих товарищей, сказал: «Я вижу людей как ходячие деревья», — и эти слова точно характеризуют наружность Ричарда Плантагенета. Менестрели поют о его золотисто-красных волосах и бороде. Золотисто-красный цвет — преимущество, полезное на расстоянии, вблизи же это всего лишь цвет сырой нефти или выскобленной морковки, и он плохо сочетался с цветом его кожи — ярко-красной, словно иссеченной резким ветром или же только что опаленной солнцем пустыни. На фоне этого кричаще-красного цвета его выпуклые синие глаза казались поразительно бледными, придавая ему беспокойный вид. Кроме того, у него были очень густые, брови того же цвета, что и волосы, пучками торчащие вперед и остриями вверх, необычайно подвижные. Нос у него был короткий, крючком, с большими ноздрями, полными рыжих волос, а крупный рот, с губами бледнее лица, был слегка искривлен и придавал ему сардоническое выражение, словно он над чем-то насмехался. Но ему никогда не была свойственна насмешка. Он всегда и ко всему подходил очень просто и прямолинейно. Ходячее дерево!
Надеюсь, что Анна никогда не покажет мою рукопись миледи Беренгарии, чтобы развлечь ее в час скуки. А если покажет… Именно таким Ричард Плантагенет виделся беспристрастному наблюдателю. (О Боже, прости мне это слово — «беспристрастный»! Я лгу. Я ненавидел его.)
Однако вполне возможно, что история с упавшими в море бочками не была выдуманной. Когда он вошел в шатер и я впервые увидел его при полном освещении, он был мокрым с головы до ног. Тонкая льняная рубаха и штаны прилипли к телу, как вторая кожа, золотисто-рыжие волосы словно приклеились к голове, такого же цвета борода превратилась в крысиный хвост, с которого на грудь стекали капли воды. Но никогда в жизни я не видел такого сияющего, счастливого и довольного человека.
Он добродушно проворчал:
— Мне кажется, я давно приказал освобождать шатер через тридцать минут после сигнала трубы к ужину! Кормить вас я обязан, но слушать весь этот ваш тарарам не намерен. Ступайте! У каждого из вас есть свои обязанности или матрац. Вот туда и отправляйтесь.
Ричард посмотрел на всю компанию, и у меня возникло странное чувство, что он точно знал, чем должен заниматься или где должен спать каждый в отдельности. Его взгляд остановился на мне. Мои обязанности были ему неизвестны, как и место, где лежит мой матрац.
Он сделал несколько шагов, остановился рядом со мной и взял меня за подбородок холодной, огрубевшей от соленой воды рукой — как встречают балованного ребенка, приподнимая навстречу своему взгляду его лицо.
— Ты очень хорошо поешь, парень. Добро пожаловать в наш шатер. Проходи. Я скоро освобожусь, и ты мне споешь. — Ричард ненадолго задержал на мне пристальный взгляд, и я подумал, не вспомнил ли он ту тускло освещенную переднюю и лютню, которую тогда у меня одолжил. Но он отошел со словами: — Ну, Раймунд, продолжай, я слушаю, — и один из его людей забормотал какие-то объяснения.
Что касается меня, то я мог повернуться и уйти. Мое любопытство было удовлетворено. Ничто не мешало мне исчезнуть, и я уже ломал голову над тем, как сказать миледи, что история с бочками не выдумка. Но что-то меня удержало. Мне припомнилась точно такая же минута, фатальный, решающий момент, когда я мог либо уйти, либо остаться. Мог вернуться на памплонский рынок, присоединиться в кабачке к Стивену и никогда не увидеть Беренгарию, никогда в жизни не взглянуть на принцессу Наваррскую. Потрясающая мысль! Я вполне мог повернуться и уйти из шатра Ричарда Плантагенета. Возможно, он вспомнит обо мне и спросит: «Где этот лютнист? Куда он делся?» Но его вопрос останется без ответа, потому что никто не знал, откуда я пришел и куда ушел.
Но я верю: мы выбираем то, что нам нужно. И вот я пишу все это черным по белому, самым лучшим своим почерком. Мы привыкли делать то, что нам приказывают, будь то Бог или дьявол. (Дорогая Анна, вы же понимаете, что никогда не опубликуете эту ересь, пока я жив, согласны?)
Я подошел к покрытому ковром грубому помосту в конце шатра, на котором стояли стол, стул и ширма. У края помоста в позе ожидания стоял невысокий мужчина в черной одежде с белыми нашивками врача. Подойдя ближе, я с некоторым удивлением узнал Эсселя, врача из Вальядолида, которого король Наварры Санчо срочно вызвал в Памплону, когда Беренгария лежала при смерти. Приехавший Эссель застал свою пациентку поправлявшейся, но не выразил недовольства, так как заехал в Наварру по дороге во Францию, куда направлялся, чтобы принять крест. «Крестовому походу нужны люди, умеющие и штопать раны, и наносить их», — сказал он.
Ричард подошел к Эсселю.
— Сожалею, Раймунд, что снова прерываю тебя, — сказал он, — но это срочное дело. Какие новости, Эссель?
— Сегодня умерли еще четверо, сир.
— Черт побери! Но почему, Эссель? Почему? Молодые, крепкие ребята, хорошая пища, хорошие условия. И все в той же части лагеря. Так сколько же за прошлую неделю — четырнадцать? Пятнадцать?
— Пятнадцать, сир.
— Вы пускали им кровь?
— Да, сир.
— И давали новые лекарства?
— Да, сир.
— Клянусь Богом, либо это место проклято, либо там дурной воздух, как я уже говорил. Их нужно перевести оттуда. Ральф! — Он требовательно оглянулся, и к нему шагнул пожилой, почтенного вида человек. — Ральф, я желаю, чтобы все шатры, которые стоят между загоном для мулов и рекой, были перенесены. В том месте что-то неблагополучно. Перенесите их сюда, на луг за моим шатром.
— Милорд, на том лугу выпас для лошадей его французского величества, — неуверенно проговорил Ральф.
— Я знаю. Но при всем моем уважении к нему мои лучники мне все же немного дороже. Тем не менее, Саймон…
— Я здесь, милорд.
— Саймон, приведи себя в наилучший вид и сходи к его французскому величеству. Передай ему мое почтение и скажи, что я собираюсь, с его разрешения, поставить несколько шатров там, где пасутся его лошади. Скажи, что такой обмен дет на пользу его клячам, потому что у воды трава сочнее и зеленее. Погоди, лучше начать с лошадей. Скажи, что я заметил, что пастбище за моим шатром уже вытоптано до земли, и спроси, не хочет ли он пойти на такой обмен. Нет… Клянусь святыми ранами Христа, он не захочет, воспримет это как порицание. Мы уже слышали о содержании лошадей французами… Черт бы их всех побрал! Ральф, переноси шатры, а ты, Саймон, отведи лошадей французов на их место. Утром я схожу к его французскому величеству и все объясню. Если дело дойдет до спора, скажу, что моим лучникам нужен лучший воздух.
Это решение показалось мне разумным, хотя некоторые замечания, предшествовавшие ему, представляли отношения между двумя предводителями в несколько зловещем свете. Почти без паузы Ричард вернулся к тому, о чем говорил с Раймундом. Под конец он сказал:
— Передай ему, что таково мое решение и я предлагаю больше к этому не возвращаться.
Раймунд и двое других, не участвовавших в разговоре, пожелали своему королю спокойной ночи и вышли из шатра. Ричард легко вспрыгнул на помост и скрылся за ширмой. Я тоже поднялся и встал у конца стола, положив лютню в ожидании того момента, когда она потребуется. Мне была видна его кровать, холщевый матрац, набитый местами торчащей из него соломой, уложенный на деревянную раму. Я видел также два железных треножия: на одном стояли таз и кувшин, а на другом лежала его кольчуга. Обстановка была беднее, чем в моей келье в Горбалзе.
Он разговаривал с каким-то полоумным по имени Дикон, который неловко подал ему полотенце и долго рылся в сухой одежде. Не без некоторого веселого удивления я поймал себя на мысли о том, что мог бы ему прислуживать более ловко, и когда один из оставшихся в шатре начал тонким, пронзительным голосом на что-то ему жаловаться, я подумал: неужели ты не можешь подождать, пока человек вытрется и оденется?
Жалобщик наконец замолчал. За ширмой остались только Ричард и Дикон.
— Я сам управлюсь. Принеси мне что-нибудь поесть, — сказал король Дикону, вышел из-за ширмы, на ходу застегивая пояс, и немедленно заговорил со мной. — Ну, а теперь, приятель, немного займемся музыкой. Клянусь гвоздями с креста Иисуса, я так проголодался, что мог бы съесть какую-нибудь старуху, лишь бы ее хорошо зажарили. А если ты поиграешь мне и споешь, я почувствую себя Иовом на Олимпе, что бы ни принес Дикон. Готов держать с тобой пари на серебряный четырехпенсовик, что это будет гороховая каша. Клянусь, это действительно самая замечательная вещь! Если потребуешь хорошей еды, она появится: на борту корабля, на остановке во время марша — везде, но стоит попросить просто поесть, получишь гороховую кашу, и это неизбежно, как сама смерть. А! Вот и она, что я говорил? Гороховая каша, чуть теплая, чем-то напоминающая мертвого осла. Ладно, Дикон, если ты утверждаешь, что это говядина, значит, так и есть. Ступай. Да скажи, чтобы часовой не впускал никого, кроме Эсселя. Я хочу заняться музыкой. Клянусь Богом, я это заслужил. Пятнадцать бочек выкатил собственными руками, а все остальные, что были со мной, побили мой рекорд, вместе выкатив на берег целых двадцать. Неплохой улов, слава Богу. — Он взялся за нож и на секунду замер: — А ты, парень, ужинал?
— Да, милорд.
О, мой ужин был куда лучше! Я вспомнил лепешечки, сыр, небольшие сладкие пирожные — все, что было приготовлено для его приема. Превосходная еда, и ее было столько, что, если не говорить о леди Пайле, все отведали каждого блюда лишь понемногу.
— Тогда поиграй мне, — попросил он и принялся за большущий клиновидный кусок остывшей гороховой каши с куском мяса, действительно цветом напоминавший осла. Сначала он ел жадно, затем помедленнее, особенно когда я запел «Смерть Роланда».

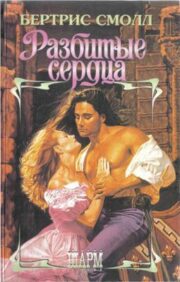
"Разбитые сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбитые сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбитые сердца" друзьям в соцсетях.