Кроме того, мы страдали и от многочисленных разновидностей малярии. Одна из них не обошла почти никого — вскоре после того, как мы ступили на Святую землю. Приступы болезни неумолимо повторялись через короткие промежутки времени. Страдал от этого недуга и Ричард, и именно из-за него Филипп Французский и отправился домой. Но была и более опасная разновидность болезни, дважды полыхавшая в наших рядах, как пожар на кукурузном поле, приводившая людей в оцепенение с потерей сознания или же в бредовое состояние, что не позволяло двигаться дальше. Всем приходилось останавливаться лагерем, пока болезнь не отступала, а потом едва оправившиеся люди шли дальше, чтобы почти наверняка снова подвергнуться такому же испытанию.
Была и еще одна, самая ужасная болезнь, преследовавшая нас все время, — колит, как называли ее врачи, а в просторечии «вода в кишках». Этот мучительный, сильно ослабляющий и отвратительный недуг в худших случаях был столь же фатальным, как и солнечный удар или малярия. Болезнь терзала почти всех, и на солдат, вышедших из колонны по нужде, сарацины налетали раз двадцать — тридцать в день, охотясь даже на одного человека. Чтобы прикрывать отставших, Ричард отрядил группу всадников, которые должны были двигаться позади колонны, на расстоянии десяти дальностей полета стрелы. Наши невидимые преследователи скоро поняли, что небезопасно нападать на проклинающих все на свете присевших на корточки крестоносцев, как налетали раньше на пораженных солнечным ударом и их добровольных помощников.
Мучили людей и язвы. Эсселя буквально осаждали солдаты, желающие получить заплесневелые галеты. То ли от жары, то ли от пыли язвы не заживали. Маленькая, как кукурузное зерно, язвочка назавтра увеличивалась до размеров четырехпенсовика, а на третий день была уже с ладонь. Потом в середине она начинала гноиться, и под нею образовывалась пустота, словно что-то пожирало здоровые ткани, и если плесень на галетах не действовала, надежды оставалось мало. Однако мы двигались дальше, и хотя к Арсуфу приближалась сильно ослабленная и поредевшая армия, это все-таки была впечатляющая сила. Ричард даже как-то заметил: «В Мессине был момент, когда я подумал о том, что у меня слишком много солдат. Да простит мне Бог эту мысль и да забудет ее».
12
Арсуф стоял на подступах к Иерусалиму и Яффе. Сарацины не стали ждать нашего нападения, и нас встретила большая армия. Вспомогательные силы давили с фланга, а третья группа перерезала дорогу в тылу. С самого начала стало ясно, что предстоит битва не на жизнь, а на смерть. Я решил, что меня не будет тошнить и что я отброшу сентиментальность. Как оказалось, я не получил возможности подтвердить эту решимость в деле, о чем немного жалел, и особенно жалею теперь, когда принимаюсь описывать эту историю. Это была одна из побед Ричарда, возможно, самая крупная. В битве при Арсуфе он вселил в сарацинов такой ужас, что потом они говорили о нем так, как христиане говорят о дьяволе.
В какой-то момент я подумал о повторении своего боевого опыта. Поскольку я был без брони, в одной короткой кожаной безрукавке с пришитыми к ней плоскими металлическими кольцами, которую друг одного погибшего от солнечного удара воина продал мне за четыре золотые монеты (шла бойкая торговля подобными вещами), меня не включили в первую линию полностью вооруженных рыцарей, готовых отразить первый удар, а назначили в группу прикрытия грузов и больных — почетная, но бесславная задача, которую я разделил с несколькими полностью вооруженными всадниками, потерявшими лошадей и не нашедшими им замены, горсткой тяжеловооруженных воинов, легко раненных в предыдущем небольшом сражении, и парой юных рыцарей, которые из-за отсутствия опыта могли оказаться в бою скорее помехой, чем реальной силой.
Если бы та, первая, атака оказалась успешной, мы с нашего места вообще не увидели бы сражения. Но сарацины встретили нападение Ричарда столь же яростно, сразу же смешались с крестоносцами; противники просочились за линию фронта, и повсюду завязались мелкие рукопашные схватки.
Надо мной навис какой-то сарацин, и на этот раз очень рослый и крепкий, державший ятаган совершенно так же, как тот, которому я отрубил руку, и я попытался повторить тот удар, обливаясь потом и моля Бога о таком же результате. Но он уклонился, мой меч впустую со свистом прорезал воздух, и, прежде чем я успел поднять его снова, ятаган вонзился туда, где кончалась безрукавка. Рукав рубашки вместе с хорошим куском мякоти повис у меня на локте, и с концов пальцев закапала кровь. Боли я совершенно не почувствовал. И вообще не чувствовал ничего, кроме удивления, и в ту же секунду — о, радость! — увидел, как меч одного из молодых рыцарей с треском рассек тело сарацина, нанесшего мне удар.
Трудно сказать, сколько времени я просидел в седле, глядя на происходящее, но вдруг колени моей гнедой кобылы подогнулись, и я перелетел через ее голову. Выпутавшись из повода, я поднялся и застыл на месте. Меня разбирала злость, и не потому, что я промахнулся, а потому, что убили мою гнедую кобылу. Ну, что ж, теперь я буду убивать, убивать и убивать…
Но меча в руке не было, а когда я вспомнил о кинжале и потянулся, чтобы вытащить его из-за пояса, оказалось, что моей руке это не под силу… Шум сражения, казалось, затихал, и все, что было у меня перед глазами, уплыло в непроглядную черноту.
А потом пришла боль. Кто-то медленно и осторожно разрезал мою рану. Я пошевелился, и боль стала острее. Потом я попытался поднять левую руку, чтобы защититься, но она наткнулась на что-то очень твердое и снова упала. Я открыл глаза.
Я лежал на спине, голова и плечи находились под кузовом обозного фургона, втиснутые между двумя другими ранеными — тень была редкой драгоценностью, и приходилось использовать каждый ее дюйм. Моя рука была крепко перетянута полотняным жгутом и мучительно болела. Меня так мучила жажда, что желание пить только добавляло терзаний. Однако, повертев головой в обе стороны, я очень скоро понял, что у меня есть основания благодарить судьбу. Человек слева от меня был ранен стрелой в челюсть, и нижняя часть его лица представляла собою ужасное месиво рваного мяса, расщепленной кости и переломанных зубов. У правого был проткнут копьем живот — но он уже умер, и его муки кончились. В воздухе висел запах крови и пыли, пропитанной кровью.
Я перестал крутить головой, и перед глазами оказалось днище фургона. Я немного полежал неподвижно, а затем осторожно приподнял голову и выглянул из-под края фургона. Мне казалось, что голова моя размером с бочонок, как будто в нее ударил камень, выпущенный из баллисты. Шея казалась длинной и гибкой, как обрывок нитки. Но я долго смотрел на небо — оно казалось мне розовым озером с плавающими по нему островами то тускло-золотого цвета, то цвета кисти пурпурного винограда. «Закат», — подумал я, уронив голову на пропитанную кровью пыль. И успокоился. Шум битвы стих, и слышны были лишь обычные звуки военного лагеря да стоны страдающих от боли людей. День кончился, кончилось и сражение.
О, если бы кто-нибудь принес хоть глоток воды, пусть грязной и зловонной, хотя бы и кишащей маленькими черными червями. Я закрыл глаза и думал о воде: о ведрах, поднимаемых из глубоких колодцев, из которых брызжут серебряные капли, о каплях дождя, пляшущих на грязных лужах, и о ручьях, журчащих во время таяния снегов.
Кто-то — голос звучал откуда-то издалека — назвал меня по имени. Открыв глаза, я увидел лицо Эсселя, размытое и колеблющееся, как трава под водой.
— Воды, — простонал я.
— Воду сейчас принесут. — Он присел на корточки, и я смог разглядеть его более ясно. Его лицо, изможденное усталостью, было белее нашивок на вороте, руки с закатанными до локтя рукавами были красными, как у мясника. — Я сейчас ослаблю ваш жгут. Я затянул его очень туго, так как кровь из вас текла, как из зарезанного поросенка. К счастью, я скоро наткнулся на вас. — Он посмотрел на моего соседа справа.
— Он готов, — заметил я.
— Я знаю, — очень мягко сказал Эссель, но в его голосе не было жалости, потому что запас жалости у человека ограничен, а в тот день слишком многие могли претендовать на нее. Он ослабил жгут, я почувствовал некоторое облегчение, о котором быстро забыл от сводящей с ума пульсации и звона в ушах, сопровождающих оживание онемевшей руки.
— Вы поправитесь, — проговорил он. — Редко бывает такая чистая рана — хороший, чистый срез. А вот и вода…
Эссель выпрямился и с видом загнанной лошади удалился. Его место занял водонос с полным бурдюком воды и маленькой чашкой. Он стал наливать в нее воду, и когда она чуть-чуть пролилась, я закричал. С тех пор я не могу спокойно видеть ни капли пролитой воды.
Напившись, я спросил:
— Как там бой?
— О, мы победили. Мы взяли Арсуф. — Водонос повернулся к моему соседу с простреленной челюстью. — Хочешь воды? — спросил он и, когда тот не ответил, тронул его ногой, не грубо, но довольно бессердечно.
— Хочешь воды? Через минуту принесу.
Хотел ли он? Исковерканные губы, разбитые зубы и расколотая челюсть… Мучила ли его жажда так же, как меня? Слышал ли он этот мучительный вопрос и понимал ли, что ему угрожает? Или будет лежать здесь, не в силах ответить, не имея возможности напиться?
— Погоди, — сказал я. — Может быть, ты сумеешь влить ему несколько капель в… может быть, он сможет проглотить их.
— Пустая трата воды, — весело ответил тот. — Она ему больше не нужна!
«Но завтра так может произойти и с тобой», — подумал я и внезапно вспомнил разговор о жалости, который однажды случился у меня с Анной Апиетской — насколько жалость определяет страх за самого себя?
И мне пришла в голову мысль о том, что здесь всего лишь один жестоко раненный человек. Может быть, многие другие страдают гораздо больше?
Потом я немного поплакал, лежа на спине, и слезы облегчения текли по обе стороны головы прямо в уши. А потом даже обрадовался боли в руке. «Мне тоже приходится страдать», — подумал я и ощутил безумную радость и облегчение при мысли о том, что моя боль может как-то компенсировать страдания всех остальных.
Скоро я почувствовал запах вареной баранины, смешивавшийся с другими запахами, а затем и возобладавший над ними. Я снова открыл глаза и увидел двух человек, один из которых тащил большое ведро, над которым поднимался пар, а другой нес черпак и много мисок.
— Кому тушеной баранины, свежей тушеной баранины? — кричал человек с ведром.
Другой, с мисками, уставился на моего соседа справа, а потом перевел взгляд на меня.
— Смотри-ка! Еще один в порядке. Эй, парень, как насчет свежей тушеной баранины? Поднимайся на ноги, хватит валяться.
— Нет, спасибо, — ответил я, и глаза мои наполнились нелепыми слезами, когда я подумал о том, как желанна была бы тушеная баранина еще вчера вечером — мне с моим вывернутым наизнанку желудком, соседу справа, который никогда уже ее не попробует, да и левому, у которого зубы, губы и язык были еще такими, какими их сотворил Бог.
— Э, послушай-ка, — прозвучал чей-то веселый голос от колеса фургона, — никогда не говори «нет». Это первое правило солдата. Тебе следует непременно попробовать баранины. Мясо свежее, хотя сначала я и усомнился в этом. Ричард велел дать каждому раненому бульон из свежей баранины. Это умнее, чем если бы он выдал четыре монеты за храбрость. Что делать с деньгами в этой забытой Богом стране, когда запрещено даже брать с собой женщин? Но доброй тушеной баранины стоит отведать каждому.
Кругом нахваливали баранину.
— Ничто лучше хорошей тушеной баранины не лечит все эти чертовы язвы, хотя доктора так и не думают, — прозвучал чей-то голос.
Я поднял голову и в сгущавшихся сумерках увидел фламандского лучника, опершегося на колесо, с забинтованной ногой и бессильно повисшей рукой. Между прижатой к телу здоровой рукой и животом была миска, из которой он пальцами выгребал мясо.
Две раны! А он по-прежнему весел, хотя и голоден. Это восхитило меня. И, зная, что Эсселя беспокоили именно язвы — больше, чем малярия и поносы, которые он считал неизбежными, — я подумал о том, что нужно попытаться не обращать внимания на собственную боль — да и на чужую тоже — и выяснить у лучника, почему он так сказал.
— Почему ты считаешь, что тушеная баранина лечит язвы? — спросил я.
— Однажды я это сам видел… Погоди, дай мне допить бульон. Так вот, я был в осажденном Серпонте — то было давно и уже всеми забыто. Мы просидели там пять недель, питаясь солониной, соленой рыбой и окороками — всего этого у нас было полно. Мы могли бы продержаться еще хоть три месяца, но нас освободили. Однако все мы буквально гнили от язв. Может быть, они гноились не так, как здесь, но мучили нас ужасно, и многие крепкие ребята умерли, по сути, зря. И вот однажды прямо к городской стене подошла девчонка-пастушка с небольшим стадом овец — штук пятнадцать. Часть старого рва была покрыта зеленой травой, и она, наверное, решила попасти их там, чувствуя себя в безопасности, а может быть, сами овцы привели ее ко рву у городской стены. Кто-то посмотрел вниз, увидел девушку в красной юбке и спросил товарищей: «Может, немного позабавимся?» Они моментально затащили ее к себе. Вместе с овцами. О том, что произошло дальше, толковать не приходится. Ну, а овцы пошли в котел, поскольку, сам понимаешь, хотя они едят все, что им попадается, но соленой селедки есть не станут. Старый герцог был справедливым человеком, и каждый получил свою долю. И за два дня язвы затянулись как чистые раны. Кроме меня на столь чудесное исцеление никто, видимо, не обратил внимания, но я человек наблюдательный — даже заметил, что ты не стал есть баранину, — не так ли? А когда я сказал им об этом, они меня высмеяли, и потом звали «овечьей кишкой». Но, как бы то ни было, я говорю то, что знаю.

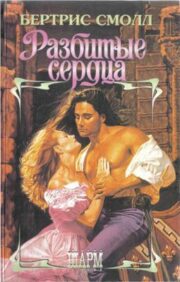
"Разбитые сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбитые сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбитые сердца" друзьям в соцсетях.