— Очень интересно, — согласился я. — И было бы неплохо доказать или опровергнуть это. Давай дальше, рассказывай, что еще ты видел. Когда я тебя слушаю, у меня меньше болит рука.
— Помилуй Бог! Да я могу говорить всю ночь напролет и расскажу тебе такое, во что ты никогда не поверишь, от чего у тебя волосы встанут дыбом. Однако через полчаса сильно похолодает и уснуть будет невозможно. Поэтому я усну сейчас, сразу. Когда я сплю, ничто, кроме хорошего пинка в задницу, меня не разбудит, так что надо засыпать, пока еще тепло. Советую и тебе сделать то же самое.
Я слышал, как он устраивался на ночь, ворча от боли при каждом движении. Ветеран, костяк любой армии — храбрый, не склонный жаловаться на судьбу, готовый и к хорошему, и к плохому. И что они в результате получили? В каждой деревне был свой старый солдат, одноногий, однорукий или одноглазый, помаленьку занимавшийся сапожным или плотницким делом, порой побиравшийся, а то и воровавший, если представлялся случай. И все они считали себя удачливыми. А тысячи других погибли в расцвете сил, смелые, энергичные, беззаветно преданные люди. Чего ради? Разве хоть что-то — от мелких распрей из-за трона до самого Гроба Господня — стоило этой дани смерти и страданий, взысканной в каком-то месте в какую-то ночь?
А потом пришел холод, и боль усилилась. Человек с размозженной челюстью вдруг издал какой-то звук, вроде бульканья кипящей воды, и в воздухе снова запахло свежей кровью. Теперь я лежал между двумя мертвецами.
Потом мне в голову наконец пришла мысль, не приходившая ранее. Почему я здесь лежу? Ноги-то у меня целы. Я выполз из-под фургона, ухватился за его боковину здоровой рукой и подтянулся, чтобы встать. В голове у меня будто переворачивался большой камень, вызывая тошноту и головокружение, а колени словно превратились в расплавленный воск. И пальцы тоже. Они скользнули по стенке фургона, и я опять упал на землю, на этот раз рядом с крепко спавшим фламандским лучником. Снова лежа на спине, я почувствовал себя лучше, громкие удары сердца и гул в голове затихли. Поднялась луна — большая тарелка из позолоченной бронзы на темном бархате неба. Меня снова мучила жажда. И холод — никогда в жизни мне не было так холодно. Я прижался к лучнику, теша себя мыслью — кристально чистой и здравой мыслью, которую впоследствии тщетно пытался поймать. «Это же очень глупо, — рассуждал я, — что люди становятся несчастными от любви и греха, ведь для счастья необходимы только отсутствие страданий и минимальные удобства». Я вспоминал все те часы, когда лежал в теплой и удобной постели, мучимый любовью и совестью. А теперь — лишь бы меньше болела рука, лишь бы выпить глоток воды, лишь бы потеплее укрыться от холода, и ни одна мысль ни о Беренгарии, ни о разрушениях, произведенных моей новой баллистой, ни об убитых мною людях не нарушала моего покоя.
Одним словом, ничто не имело значения, кроме физического благополучия. Не в этом ли истина?
Луна из позолоченной бронзовой тарелки превратилась в серебряную. То здесь то там слышались шевеление и стоны раненых, так же, как и я, страдавших от боли, жажды и холода. Но в общем ночь была тихой.
Поодаль показались две высокие фигуры. Они то двигались, то останавливались и всматривались во что-то, то устремлялись дальше. Я понадеялся, что это водоносы, но они шли слишком быстро. Перед самым фургоном, под которым я лежал, двое разошлись. Один подошел ближе, и я узнал его. Это был Рэйф Клермонский, с кровавым пятном на белой повязке, закрывавшей ухо и часть головы.
Он остановился, всмотрелся, узнал меня, выпрямился и тихо окликнул второго:
— Здесь, сир.
— Ты тоже ранен, — пробормотал я.
— Царапина на ухе. А что с тобой?
— Рука…
— Рука? — повторил он. — Но ноги-то целы. Неужели ты не мог прийти сам и избавить меня от необходимости разыскивать тебя?
Я не успел ничего ответить, потому что в это время, обогнув фургон, быстро подошел король и склонился надо мной.
— Мы тебя искали. Ты тяжело ранен?
— Только в руку, — непонятно почему я внезапно застыдился, — но я не могу идти. Я уже пробовал и упал… — Голос мой, прерываемый дробью стучащих от холода зубов, прозвучал по-детски капризно, как будто я жаловался.
Ричард наклонился ниже и обхватил меня рукой.
— Теперь все будет хорошо, — успокаивающе проговорил он. — Обхвати здоровой рукой мою шею.
Он выпрямился, подняв меня, как ребенка. Из-под фургона послышался голос:
— Дайте попить.
— Сейчас тебе принесут воды, дружище, — тепло отозвался Ричард. — Рэйф, ступайте поднимите этих бездельников. Я тысячу раз говорил, чтобы после боя людей обносили водой каждый час. Утром прикажу отхлестать их плетью… Блондель, ты холодный, как труп. Я чувствую это даже через одежду.
— Им всем тоже холодно, — недовольно возразил я, потому что меня-то искали, нашли и теперь уводят в теплое место.
— О них позаботятся, — сказал он. — Мы взяли Арсуф, а в городе полно одеял. Вот определю тебя, и тогда…
13
Пока мы лежали в Арсуфе, раненые либо вылечились, либо поумирали, и мертвых похоронили. День за днем звучали погребальные молитвы, и над теми, для кого уже никогда не засияют ни солнце, ни свечи, разносился сигнал горна: «Гасить огни, всем спать».
Ричард, которого победа сделала великодушным, хотел похоронить сарацинов с соответствующими церемониями. Однако Хьюберт Уолтер возразил:
— Тогда, сир, вы должны найти кого-то, кто произнес бы речь. Но как могу я или кто-то другой моего ранга воспевать Бога перед теми, кто плюет на святой крест, и прославлять погонщика верблюдов?
— Они так мужественно дрались, — с сожалением ответил Ричард, но прислушался к мнению Уолтера и ограничился приказом перенести мертвых сарацинов в указанное место, где установили белые флаги, чтобы все желающие могли прийти и забрать тела для погребения.
Но ведь и гарнизон Акры сражался самоотверженно, однако сарацинов там поубивали, как овец, и оставили на съедение грифам. Столь противоречивое поведение Ричарда Плантагенета, как и многое другое в нем, было совершенно непонятно.
От Арсуфа до Яффы и от Яффы до Аскалона я шел в пешем строю, вместе с теми, чьи лошади были убиты. Нападение на лошадей было продуманной тактикой сарацинов, знавших, что в этой враждебно настроенной стране новых лошадей получить невозможно. Поэтому и теперь обычным делом было увидеть рыцарей, упрашивавших кучеров фургонов взять у них доспехи, сами же они в безрукавках из мягкой кожи тащились рядом, готовые по первому знаку надеть кольчуги. Иногда можно было увидеть йоменов или арбалетчиков, за гроши или какие-либо вещи тащивших на себе части доспехов. К счастью, с приходом осени погода изменилась, и наступили прохладные дни, когда идти было даже приятно. Люди больше не падали от солнечных ударов, меньше стало случаев малярии, хотя страдавшие одним из ее видов под названием «из жары в холод» или «двойной дьявол» по-прежнему переживали не лучшие дни.
Рука моя заживала плохо — как и многие раны у других, что в какой-то степени оправдывало распространенное мнение о том, будто сарацины пропитывали стрелы ядом. Она распухла до кончиков пальцев, и онемение не проходило. Боясь совершенно утратить способность что-нибудь ею делать, я использовал каждую свободную минуту для того, чтобы практиковаться в письме, а позднее, когда правая рука смогла держать лютню, играть левой. Поначалу дело шло так медленно и неуклюже, что я часто приходил в отчаяние, но потом, в один прекрасный день, все внезапно наладилось, и скоро я стал свободно писать обеими руками, а для пишущего человека это истинное благословение: когда одна рука устает, перо можно взять в другую, и работа будет идти без остановки.
Из-за ранения я не принимал в битве за Яффу. Но я наблюдал за сражением и стал очевидцем события, запечатленного в балладах менестрелей, которое здравомыслящие люди подвергают сомнению, называют фантазией или легендой.
Накануне этой битвы у Ричарда был один из его «плохих дней». Он не мог ничего есть и дрожал как в лихорадке, когда на него надевали доспехи. Но дрался он как дьявол и носился по всему полю битвы, выбирая наиболее устрашающего противника. В одной из схваток он получил сильный удар по шлему и зашатался в седле, но овладел собой и, нанеся удар, сразивший сарацина, повернул Флейвела прямо на другого — судя по платью, эмира, уже нависшего над ним. Какой-то христианский рыцарь принял этот удар на себя и, умирая, спросил:
— Как поживаете, милорд?
— Есть хочу, — бросил Ричард, вновь устремляясь в атаку.
Эмир, блестяще владевший искусством верховой езды, уклонялся от ударов, гарцуя кругами, — все сарацины, если не идут на объект нападения в лоб, проявляют увертливость, как вспугнутые осы, — и, услышав эти слова, прокричал по-латыни, понятной только тому, кто был знаком с розгой брата Симплона:
— Проголодались, могущественный лорд? Так отправляйтесь подкрепиться.
Ричард, подозревая какую-то хитрость неверного, как он потом объяснил, ответил:
— Подкрепиться? В разгаре сражения?
Эмир, по-прежнему круживший, как оса, прокричал:
— Сражаться лучше не на пустой желудок.
— Тогда отправляйтесь первым, — возразил Ричард.
И эмир, не прекращая свои круги, сжал коленями бока лошади, высоко поднял над головой правую руку, а левой достал из-за пояса серебряный свисток и подал длинный, пронзительный сигнал. Немедленно все сарацины разом повернулись, галопом устремились к небольшой возвышенности на краю поля и осадили дрожащих, задыхающихся лошадей. Христианские рыцари, озадаченные таким маневром, на секунду застыли, а потом повернулись к Ричарду, ожидая команды.
— Сейчас поедим, — прокричал он. — Вот только у меня ничего с собой нет.
Именно в этот момент занял свое место в балладе — и в истории — Вильгельм Фаулерский. Открывая дорожную сумку, он выехал вперед и предложил королю нечто, явно приготовленное про запас. Подобно окороку моего суффолкского лучника, это была какая-то совершенно особенная еда — некий круглый темный предмет, завернутый в оболочку.
— Настоящая кровяная колбаса, милорд король.
(Позднее я взял на себя труд исследовать это событие. Уильям Фаулерский был родом из Бейквела, из той части Англии, которая всегда втайне держалась в стороне и именовала себя Нортумбрией, по названию древнего королевства. Там делали «черный пудинг» — это была застывшая смесь свиной крови с мукой крупного помола, для лучшей сохранности обернутая пленкой от пузыря. «Я ношу ее с собой полтора года, — сказал он, отвечая на мой вопрос, — и если бы кто-нибудь хотя бы предположил, что я отдам ее кому-то, кроме земляков из Бейквела, я убил бы его сразу. Но ведь самый лучший человек заслуживает самого лучшего, а?»)
Ричард посмотрел на этот черный пудинг и впился в него зубами. Смотрел на него и сарацинский эмир, у которого тоже разыгрался аппетит, но он развернулся и направился к своим. Прошло еще немного времени, и другой сарацин, более низкого ранга, подъехал и предложил Ричарду Английскому деревянное блюдо, полное сушеных плодов фигового дерева, сладких фиников и маленьких пирожных, и кувшин странного шипучего напитка — это был шербет, который строгие последователи Аллаха и Магомета пьют вместо запретного для них вина.
— Передай вашему человеку со свистком, чтобы давал сигнал, когда будет готов, — сказал Ричард. — Да передай ему вот это, в знак моего расположения, — и он отрезал кусок черного пудинга.
Не знаю, было ли в тот момент кому-нибудь, кроме Вильгельма Фаулерского, известно, что черный пудинг изготовлен из свиной крови, но, вероятно, он даже не подозревал о том, что для сарацинов свиньи — самые нечистые животные. И вряд ли кто-нибудь, кроме меня, — да и я только после своего исследования — порадовался созерцанию того, как сарацинский эмир поедал черный пудинг, и, судя по его виду, он ему очень нравился.
Вскоре эмир выехал вперед и спросил:
— Наелись?
— Наелись, благодарю вас. Теперь остается лишь насытиться битвой, — ответил Ричард.
Не отъезжая от него, эмир свистнул, и сарацины по небольшому склону устремились каждый к тому месту, насколько об этом можно было судить со стороны, где сражались до перерыва. Битва возобновилась. Эмиру, приславшему фиги и финики и наевшемуся присланного в благодарность за это черного пудинга, удалось перерезать горло Флейвелу, который тут же испустил дух, и Ричард присоединился к компании безлошадных.
Такова правдивая история. Многие ее воспевают, но мало кто верит. Но я видел, как это было. Говорят, что сарацинским эмиром был сам Саладдин. У меня нет доказательств этого. Совершенно так же, как христианам везде мерещится сатана, а сарацины рассказывают о внушающих страх внезапных появлениях и исчезновениях Ричарда, так и крестоносцы всегда видят Саладдина в каждом старике водоносе, грязном бродячем торговце или во всаднике, промелькнувшем на горизонте.

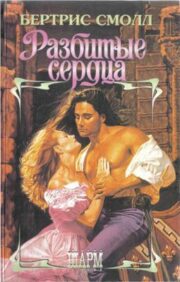
"Разбитые сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбитые сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбитые сердца" друзьям в соцсетях.