Осуждать очень легко: это на самом деле и мудрее, и безопаснее. Иммунитет человека к аморальности лучше всего утверждается путем громких протестов, возбуждаемых ужасом и отвращением, а не умозрительными заключениями или попытками понять.
Меня больше всего озадачивает неизбежное чувство стыда, возникающее при одной мысли об этом. Мы говорим, что это — противоестественно. Но противоестественного кругом очень много — отцеубийство, убийство матери, детоубийство — однако при упоминании о них ни у кого щеки не заливаются краской. Это предполагает бесплодие, бросает вызов божественному порядку с его призывом «плодитесь и размножайтесь», но, с другой стороны, соответствует монашеским обетам, считающимися благонравными. Это не запрещается десятью заповедями и не входит в перечень семи смертных грехов, и все же у всех, кроме особых приверженцев, вызывает ощущение насилия над неким глубинным инстинктом и отвращение, смягчить которые не в состоянии ни жалость, ни любопытство. Не чужд стыд и им самим. Трудности сближения, постоянная опасность отказа, риск подвергнуться насмешке непременно сопряжены со стыдом.
Девушка может отказать мужчине, а он посмеется и скажет: «Я ей не нужен», не утратив ни самоуважения, ни уважения окружающих. Путь к постели девушки обычно хорошо обставлен привычными знаками, нежными или вызывающими взглядами, сладкими словами или ласковыми жестами, и ни один мужчина, если он не круглый идиот, не может усомниться в их значении. Но этот, незаконный, путь — неизбежно путь во мраке, и он приводит к сценам, подобным той, которую мне довелось пережить, — настолько эксцентричную, что даже воспоминание о перспективе принять в ней участие приводит меня в ужас.
Когда мне все стало ясно, я по совершенно необъяснимой причине почувствовал себя виноватым. В памяти всплывали все случаи, когда он бывал ласков со мной, выказывал расположение или снисхождение. Я всегда чувствовал себя в неоплатном долгу перед ним, и это, в свою очередь, меня злило. «Ведь я не обязан ему ничем, — гневно говорил я себе. — А если он столько времени ошибался во мне, так это его дело, моей вины здесь нет!» Но от этого ощущения было не так-то легко отделаться. Меня мучило сознание того, что я стал причиной его неудачи, и последние слова Рэйфа не давали мне покоя. А потом мое сознание повернулось самым неожиданным образом, и я стал перебирать в уме его многочисленные достоинства — безудержную храбрость, справедливость, внимание к мелочам, живой ум, стойкость к превратностям судьбы и даже тот факт, что он, когда хотел, становился несравненным менестрелем. Я всегда относился к нему ровно, никогда не впадал в состояние поклонения герою, чем страдали самые разные люди. В великие дни его побед и громких подвигов я ликовал вместе со всеми, но какая-то часть моего сознания не разделяла всеобщих восторгов. А в дни поражения, да еще когда обнажилась его роковая слабость, на него обратилось мое проклятое искусство миннезингера; теперь я видел в нем великого человека, героя — отвергнутого маленьким, сопливым, стыдливым лютнистом.
Я не мог объяснить, в чем моя вина перед ним, но однажды вечером, уже почти засыпая, вдруг, потрясенный, понял, почему стал безоговорочно обожать Ричарда. Все было очень просто: ушла ревность, только и всего. В глазах всего мира он был мужем Беренгарии, но она никогда не могла принадлежать ему, как женщина должна принадлежать мужчине. Он не мог любить ее больше, чем я. Поэтому мое тело могло простить его, а значит, и мой ум мог признать, что он лучший рыцарь из всех, самый умудренный военачальник и величайший менестрель своего времени.
После этого болезненное чувство вины только усилилось.
Мы ехали вместе. Отношения наши были весьма прохладными, обоих мучила какая-то недосказанность, и мы избегали встречаться взглядами. Все три дня в пути от Силиции мне не давал покоя вопрос — не предпочел ли бы он ехать дальше без меня.
— Видит Бог, нет, мой мальчик, — ответил он, когда я спросил его об этом. Наверное, эта малоприятная ситуация была для него не внове. Ему было уже за тридцать, и он, вероятно, получал нередко подобные отказы.
Мы въехали на территорию Штирии, погода испортилась, и яростный, пронизывавший до костей ветер бросал нам в лицо струи дождя со снегом. Нам пришлось оставить привычку спать в любом месте, под каким-нибудь самодельным укрытием, и ночевать на постоялых дворах, неизменно ужасно грязных и несообразно дорогих. Для меня стало проблемой размещение на ночлег. Очень часто нам предоставляли лишь одну кровать, и крайне редко в комнате был третий постоялец. Ричард, наверное, догадывался о моих затруднениях и всегда делал вид, что неимоверно устал, зевая, потягиваясь и заявляя, что уснет мертвецким сном, едва коснувшись подушки.
Однажды, в разговоре в пути, я коснулся вопроса об армейской дисциплине и всплыло слово «насилие» — в сексуальном смысле.
— Естественно, мне это не нравится, — с полным спокойствием произнес Ричард. — Даже с собственной точки зрения я считаю взаимность до некоторой степени желательной. — И, посмотрев мне прямо в лицо, рассмеялся. — К этому же сводится и твое мнение, мой мальчик.
Я почувствовал себя пристыженным несмышленышем.
Мне пришлось еще раз устыдиться — возможно, по более достойной причине — под Грацем. Ричард, богохульствуя, ворчал на погоду, но заметил, что она здоровее палестинской жары, и казался неуязвимым, но на меня холод действовал так жестоко, как никогда раньше. Кости ныли, из глаз и из носа непрестанно капало, а в ушах стучали большие молотки. Боясь его расположения больше, чем презрения, я изо всех сил старался скрыть свою болезнь, но он заметил, что мне неможется, и у первого же постоялого двора, до которого мы доехали во второй половине дня, сказал:
— Здесь мы остановимся. Тебе необходим горячий кирпич к ногам и немного подогретого вина.
На дворе возился работник, и мы оставили лошадей на его попечение. Обычно за тем, чтобы они были накормлены и надежно заперты в конюшне, следил я. Стойлом здесь считалась соломенная крыша на двух столбах, и мне пришлось стреножить лошадей, прежде чем оставить их там. Ричард сам подогрел вино, а хозяйка нагрела кирпичи.
Утром я почувствовал себя много лучше, но лошади наши исчезли. То ли их украли, то ли они были плохо привязаны и ушли сами — никто ничего сказать не мог.
Ричард был разъярен, но ограничился лишь короткой вспышкой гнева, так как было совсем не мудро привлекать к себе излишнее внимание. Староста сделал широкий жест, позволив Ричарду обыскать всю деревню и, если не удастся обнаружить наших лошадей, хотя бы подыскать способных довезти нас до следующей остановки. Но во всей деревне не было ни одной лошади.
— Четыре рабочих быка, шесть коров и один немыслимо старый осел, вращающий водяное колесо, — вот вся скотина, — сообщил мне Ричард. — Может быть, купить осла? Ты бы мог сегодня поехать на нем.
Я запротестовал, сказав, что могу идти пешком. Староста, расставив ноги и качаясь, как на волнах, — по-видимому, изображая всадника — бормотал: «Эедбург, Эедбург». Мы поняли, что в Эедбурге сможем найти лошадей. Жаль только, что ему не удалось мимикой изобразить, что до Эедбурга семьдесят пять миль.
В Эедбурге действительно были лошади — в поле мы насчитали шесть. Дождевые облака отступили, и засияло солнце. Мы доехали до развилки трех дорог. Одна дорога шла на запад, в Аугсбург и к Рейну. Мы поехали по ней. Эедбург стоял между двумя дорогами, а в вышине образованной ими буквы «V» была приличная гостиница. За правой дорогой, ведущей в Вену, лежало то самое поле с шестью лошадьми. Поле отделяла от дороги стена из грубо уложенных камней, и мы постояли у нее, разглядывая лошадей. Потом Ричард выпрямился, взял меня под руку и повел к гостинице. Он заказал подогретого вина, а когда его подали, поднял свою кружку и сказал:
— Ты храбро шел. — Помолчав, он заговорил снова: — Если лошади здесь редкость, а это, кажется, именно так, то нам понадобятся деньги. — И, открыв простую кожаную сумку, висевшую на таком же простом кожаном поясе, принялся пересчитывать монеты. Потом, собрав их вместе, вымолвил: — Потеря лошадей и вынужденная пешая прогулка нас немного задержали. Провоз вниз по течению Рейна будет стоить денег, и к тому времени могут просочиться сведения о нас. Нам срочно нужны деньги. Лучше быть готовыми ко всему. У меня есть две вещи, годные для продажи… — Он запнулся и улыбнулся мне. — У тебя случайно нет секретной кубышки?
Я признался в полном отсутствии денег.
— У меня есть вот это, — сказал он, хлопнув по грязному столу перчатками, — и еще пояс. — Его рука потянулась к талии — под туникой был вышитый пояс, над которым трудилась Беренгария во время долгого ожидания. Он был сделан из голубого бархата, усиленного вязаной лентой из конского волоса, с подкладкой из мягкой замши, вышитый золотыми и серебряными нитками, с узором из жемчужин и сапфиров. Я помнил, как она часами сидела за работой, старательно подгоняя стежок к стежку, как внимательно следила за работой искусного мастера, сверлившего мельчайшие отверстия в камнях, а в конце концов пожертвовала своей бриллиантовой брошью для изготовления пряжки. Было очень жалко его продавать, тем более что у Ричарда еще оставались деньги.
— Это маленький городок, — заметил я. — Настоящую цену за пояс здесь не получить.
— Тогда перчатки, — сказал он и посмотрел на них с любовью и сожалением. Когда-то великолепные, теперь они пообтрепались от долгой носки. Сделанные из плотной козлиной кожи, отлично выкроенные, крепко сшитые, перчатки были еще целыми и не потеряли формы, но кожа на ладонях потерлась, а нитки, удерживавшие жемчужины, кое-где порвались; несколько жемчужин потерялось, узор их был нарушен. Ричард взял нож и аккуратно подрезал торчащие нитки.
— Единственный роскошный предмет моего гардероба, — проговорил он. — Расставаясь с ними, я иду против всех своих чувств и желаний. — И снова рука его потянулась к талии. Помня о значительном количестве золота в его поясной сумке и его отношении к деньгам, граничившим с панической скупостью, в особенности когда речь шла о личных расходах, я спросил:
— Зачем продавать их, да еще в таком маленьком городишке? У вас ведь еще есть деньги!
— Я смотрю вперед. Сейчас не время для сентиментальности.
— Тогда я пошел на базар, — предложил я, быстро положив руки на перчатки. — Мое дело предупредить.
Рыночная площадь находилась рядом с венской дорогой. Для начала я зашел в ларек с разными безделушками и украшениями, и, едва увидев, что я собираюсь не покупать, а продавать, похожий на гнома человечек замахал руками и выпроводил меня на улицу со словами, звучавшими как ругательства, словно я был заблудившимся бычком. По другую сторону широкой площади я увидел лавку, в витринах которой были выставлены изделия из кожи. Более приветливый человек взял перчатки, повертел их, задержал взгляд на жемчужинах, покачал головой, осматривая потертые ладони и места, где не было ниток.
Пока он раздумывал, какой-то горожанин, шагавший к лавке через площадь, подошел к нам. Это был невысокий полноватый мужчина, одетый в бархат. За ним следовали три маленькие собаки, подобных которым мне видеть еще не приходилось. Туловище у них было в два раза длиннее, чем у известных мне, а лапы очень короткие, причем передние — кривые. У них были висячие уши, яркие, умные глаза, а шкура такая гладкая, прилизанная и лоснящаяся, что они казались тоже одетыми в бархат. Собаки выглядели не менее экзотично, чем, скажем, носороги.
Хозяин лавки, многозначительно взглянув на меня, отложил перчатки и занялся пришедшим. Собачки остановились рядом со мной и стали теребить мои штаны толстыми тупыми лапами. Я нагнулся к ним, а выпрямившись снова, увидел, что хозяин собак примеряет перчатки, с интересом и одобрением рассматривая их. Они с лавочником говорили на своем языке, и, не понимая ни слова, я сообразил, что он нашел именно то, что искал. Дело кончилось тем, что он открыл кошелек, вынул две золотые монеты, с вопрошающим видом протянул их ко мне на ладони, а потом положил на край прилавка. Это было вдвое больше того, что мог надеяться получить за них разумный человек, и я пришел в восторг, но почему-то колебался. Человека, жившего изготовлением и продажей кожевенных товаров, как мне показалось, едва не хватил удар. Но хозяин собак повернулся и зашагал обратно через площадь, а хозяин лавки пожал плечами, развел руками и улыбнулся. Я взял монеты, поблагодарил его и направился обратно в гостиницу. Подойдя к двери, я заметил, что одна собака шла следом за мной. Я нагнулся, коснулся бархатной головы, где кожа была собрана в морщины густо-золотистого цвета, и сказал: «Ступай домой. Иди к хозяину», потом помахал рукой в знак прощания и вошел в гостиницу.
— Ну, как? — спросил Ричард.
— Продал. И очень удачно. На них случайно обратил внимание прохожий горожанин с полным кошельком. — Я с гордостью выложил на стол два золотых.

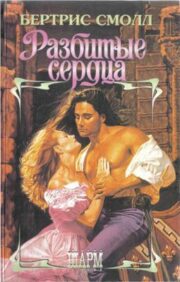
"Разбитые сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбитые сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбитые сердца" друзьям в соцсетях.