— Он прислал за тобой.
Да, настал ее час. В Памплоне, Бриндизи, Мессине, на Кипре, в Акре, потом в Мансе и Руане, а теперь и в Эспане она ждала — в отчаянии, нетерпении, ярости, то смиренная и терпеливая, то гордая и горевшая вызовом. И вот долгожданный момент наступил.
В шесть часов, когда солнце уже поднялось над покрытым росой миром цветов и птиц, Беренгария уехала, такая счастливая, удовлетворенная и вознагражденная за все муки, что это вызвало у меня благоговейный страх.
— Ну, вот и все, — проговорила я, возвращаясь в дом, не замечая вцепившейся в мою руку Джин и обращаясь к Блонделю, шедшему рядом, с другого бока. — Как говорят в Наварре: «Наконец-то ты идешь туда, где находится твое сердце». Дай ей Бог счастливо доехать.
— Можно и доехать, если сердце в надежном месте. Он должен выглядеть так, словно когда-то вошел в Иерусалим.
— Русалим, — эхом отозвалась идиотка, взявшая себе привычку повторять обрывки фраз и слов.
12
Теперь под широкой крышей эспанского дома, строительство которого успешно продвигалось, осталось семь женщин — вернее, восемь, если считать Джин. Не так давно я осматривала этот участок или просто думала о нем, лежа в постели, чувствуя себя человеком, севшим на смирную старую лошадь, чтобы проехать милю, но едва он коснулся седла, как кобыла превратилась в норовистого, плохо взнузданного жеребца, закусившего удила и проскакавшего двадцать миль по холмам и долинам в противоположном направлении.
Возможно, в перерывах между боями сэр Годрик гордился тем, как умно ему удалось пристроить сестру; или, может быть, его жена с восторгом рассказывала о том, как освободилась от ненавистной невестки, а возможно, друзья Джизельды радовались ее счастливой судьбе. Я знаю только одно: так или иначе, слух о том, что Эспан стал местом для невостребованных женщин со всего Манса, стал причиной того, что нас начали одолевать просьбами приютить какую-нибудь несчастную.
Судьба, сделавшая меня физически столь достойной жалости, а во всех других отношениях вызывающей зависть, наградила меня также и склонностью к некоему чувству, которое в лучшем случае можно назвать состраданием, а в худшей ипостаси — смертным грехом гордыни. Я никогда не заблуждалась в своих мотивах, даже в те далекие дни, когда кормила нищих в Памплоне, я понимала, почему жалела калек и уродов, и знала, что буду чувствовать, когда смогу оказать помощь.
Все эти женщины взывали как к моей жалости, так и к самонадеянности. Далеко не все они были уродливы или неизменно бедны, но объединяло их одно: у них никогда не было дома или они потеряли его в этом мире, в рамках общества, разлучающего мужчин и женщин, а потом объявляющего, что женщина без мужчины не больше чем мусор, тогда как природа, война и нравственность утверждают совершенно противоположное: что из младенцев выживает больше девочек, женщины переживают мужчин, мужчин можно убивать, женщин нужно беречь и мужчина может иметь только одну жену. Я часто думала, что Бог либо не хочет, чтобы каждая женщина имела мужа, либо отрицает моногамию. Порой мне казалось, что сарацинский обычай, при котором мужчина имеет столько жен, сколько может содержать, более милосерден, а еврейский закон, согласно которому вдов считают ответственными за семью, более нравствен, чем порядок, принятый у христиан, постоянно превращающий незамужних и вдов в отбросы общества.
Большинство достойных жалости ситуаций не является результатом нищеты; почти все бедные женщины в состоянии работать и, как замужние, так и одинокие, могут радоваться плодам своего труда. В любом случае, когда нас просили о приюте, приглашении, защите какой-нибудь женщины, всегда находился мужчина — брат, отец, сын, племянник, — готовый оказать поддержку деньгами. Единственным его желанием бывало отделаться от женщины — от сестры, потому что ей пора замуж, от матери, так как та ссорилась с женой из-за воспитания детей, от дочери, поскольку та не хотела выходить замуж именно в данный момент, не найдя подходящего мужчины, а пристроить дочь — святая обязанность главы семьи. Женщинам не хватало места, они были беззащитны. Одна из них — сестра графа Тоарского — приехала в Эспан с шкатулкой драгоценностей под мышкой и с собачкой под другой.
— Все это принадлежало моей матери, а теперь мое, — сказала она, вручая мне шкатулку, — и если я смогу поселиться здесь и не ехать в Блуа, где не разрешается держать собак, я с удовольствием отдам это вам. Камни на любой женщине сверкают одинаково, а собачка знает и любит только меня.
О, сколько духа противоречия было в ее словах! И недопустимой доверчивости. Что мешало мне забрать у нее драгоценности и выпроводить в лес?
Они все были очень доверчивы, в особенности незамужние, и большинство не придавали значения деньгам, поскольку не держали в руках ни одной монеты — ведь собственных денег у них не бывало отродясь.
Когда-то Беренгария жила в своем мире, отстраненном и неприступном. Теперь мир этот разрушился. Взывать к моей жалости и гордости было, разумеется, опасно, и она проявляла почти безумный интерес ко всему, что могло бы отвлечь ее мысли от Ричарда и от собственного странного положения. Женщины отвлекали ее больше, чем птицы, пчелы, бабочки и цветы.
Блондель теперь чаще бывал трезвым, потому что у него всегда было какое-то дело, но случалось, что его переживания подпитывались отчаянием королевы и винным хмелем.
А я обнаружила, что запуталась в сложных, на первый взгляд увлекательных, а порой вызывающих тревогу финансовых проблемах.
Иногда — а после отъезда Беренгарии особенно часто — мне хотелось отбросить свои бесконечные дела, перестать за всем следить, все замечать и проверять, всех выслушивать — и думать только об Апиете. О том, как я оставлю этот дом, который никогда не был и никогда не будет моим. Что тогда станется со всеми ними?
Летом, после того как Беренгария воссоединилась с Ричардом, я серьезно занялась финансовыми и административными делами. И получила помощь оттуда, откуда не ждала, а именно от Бланш. Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, что я буду просить совета и получу его от этой глуповатой, нерешительной девушки, годами пытавшейся флиртовать и с мужчинами, и со святой церковью, я рассмеялась бы и назвала его сумасшедшим. Но случилось именно так.
Бланш совершенно неожиданно вышла замуж, и, для ее возраста, очень удачно. И, по-видимому, была хорошей женой Тиболту Шампанскому. Но за несколько месяцев в браке ей не удалось забеременеть, и ранней весной она решила совершить поломничество к могиле святой Петронеллы, в Манс.
Святая Петронелла была девственницей, но за ней закрепилась репутация излечивающей бесплодие, и вокруг места ее упокоения ногами объятых тревогой бездетных женщин был вытоптан глубокий след. На ее могиле в любое время года лежали небольшие букеты цветов, чаще всего анонимные, но многие и с надписями: «С благодарностью за Джеффри», «За Гийома», «Святая Петронелла подарила мне Джона». (Возможно, некоторые женщины силой раскрывали свои упрямые матки, но мне кажется, что результат они считали скорее дарованным, нежели полученным самостоятельно. Когда мы жили в Мансе, я часто ходила туда и смотрела на эту скромную дань, но только один раз увидела букет с надписью: «Спасибо тебе, дорогая святая, за Мари Петронеллу». Сердце мое прониклось теплом к этой матери!)
Отчасти потому, что Бланш была теперь замужней дамой, отчасти из любопытства к судьбе Беренгарии, а отчасти из соображений удобства, она приехала и остановилась в Эспане. И когда мы говорили об ее браке и о тайне отношения Ричарда к Беренгарии — о действительной причине Бланш не имела ни малейшего понятия, — она сказала:
— Я никогда не ожидала, что ее брак будет счастливым; моя сестра всегда казалась мне живой только наполовину.
Я возразила, сказав, что Беренгария очень изменилась, и это было правдой, и призналась, что в последнее время ничего о ней не знаю, потому что, хотя в то восхитительное утро Беренгария, крепко обнимая и целуя меня, обещала писать, я не получила от нее ни единого письма. И мы стали говорить об Эспане. Бланш, прожившая несколько лет в монастыре, никогда не придавала значения обетам, не давала их и всегда имела возможность свободно наблюдать жизнь. Она рассказала мне все, что знала об управлении хозяйством. Ни один еврей-ростовщик не смог бы превзойти ее в сжатости и проницательности суждений, а то и в их цинизме.
— Настоятельниц никогда не назначают из соображений святости! Святая церковь выбирает лидеров точно так же, как любая армия. Командование должно быть компетентным, энергичным, умным. Ни одна настоятельница, которых я знаю, будь она мужчиной, не могла бы стать монахом — стала бы солдатом, кардиналом или разбойником. Кстати, из тебя вышла бы хорошая аббатиса. В конце концов, Эспан — тот же монастырь во всем, кроме цели.
— Я не решилась бы так утверждать, — рассмеявшись, заметила я. — Как быть со всеми этими собаками, кошками, обезьянками, идиотками и незаконным ребенком Камиллы?
— И с ручным домашним менестрелем аббатисы!
— Он — архитектор и старший мастер, — уточнила я, но не слишком поспешно. — Однако у меня нет никакого желания быть аббатисой, и если ты будешь меня так называть, я лишу тебя своего расположения.
— Ну и что?
— А то, что святая Петронелла, несомненно, пошлет тебе отличного мальчика.
Мне захотелось отвлечь ее внимание, но у меня почему-то мелькнула мысль о том, что я походя произнесла смертный приговор.
13
Я снова погрузилась в дела, но лихорадочное состояние и потребность отвлечься растворились в повседневной суете. Подспудно, без спешки, я готовилась к тому времени, когда уеду в Апиету, оставив Эспан на самоуправлении, при полной самостоятельности. Счастливая деловая осень — с книгами, музыкой, нормальными человеческими интересами, далекими от личных проблемами и с Блонделем для компании.
Он пил, но я могла его понять. Выходя из темного леса, мы все выбираем себе дорогу, каждый должен найти свой собственный путь — и хотя я с болью смотрела на его затуманенные глаза и припухшее лицо, отмечала небрежность в костюме и в манере держаться, это было лучше, чем видеть его несчастным. В подпитии он не был ни неприятным, ни шумным и никогда не напивался до бесчувствия. Многие из наших самых интересных и оживленных разговоров начинались после того, как бутылка была опорожнена. И хотя я понимала, почему он так много пил, знала из нашего общего опыта ту боль, которую он пытался хотя бы ненадолго заглушить, была и еще одна причина, о которой он не трубил на весь свет. Рана на руке давно зарубцевалась, но беспокоила его до сих пор: болела перед дождем или когда он очень уставал. По утрам рука висела тяжелая и ослабевшая. И постепенно усыхала, как пораженная болезнью ветка на дереве. К счастью, будучи в первый раз ранен, Блондель начал тренировать левую руку и теперь мог писать и играть на лютне обеими руками одинаково.
Возможно, такой источник ощущения счастья может показаться несколько странным, но те месяцы в Эспане были освещены неким светом, и теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что погода там всегда была хорошей и постоянно сияло солнце.
А потом пришло письмо от Беренгарии.
Я часто отмечала особый пафос в написанном людьми, которые только-только овладевают пером, или даже более опытными, но не склонными ни к эпистолярному жанру, ни к искусству вообще. Перо в руках новичков — великий прорицатель. Опытные писатели нередко прячутся за прекрасными фразами, сплетающимися в гладкую речь, другие же — может быть, как бы в компенсацию этого — пишут вещи, хватающие за сердце, прибегая к красноречивым умолчаниям.
«Я хочу, чтобы ты была здесь, Анна, чтобы я могла с тобой разговаривать».
Мы проводили вместе с нею долгие, бесконечно долгие часы, не зная, что сказать друг другу, но я понимала, что она имела в виду.
«Самочувствие короля очень быстро улучшилось, и он снова участвует в боях. Однажды в ходе сражения французы прорвали нашу линию, и бой завязался совсем близко — мне было все видно, как на турнире. Ужасное зрелище: люди падали мертвыми, и я боялась, что убьют и его. Это произошло за два дня до того, как я кое-что узнала…»
Интересно, что она имеет в виду?
«У меня теперь много придворных дам. Самое модное развлечение здесь — говорить по-английски. На английском тараторят даже аквитанки. Они пытаются учить и меня, но, как ты знаешь, я не слишком способная ученица. Ричард английским не пользуется, хотя и понимает его».
Если бы он им пользовался, она тут же начала бы брать уроки и овладела бы английским так же быстро, как и любая другая из ее дам, явно прибегавших к этому странному языку, не желая, чтобы она понимала суть разговора.

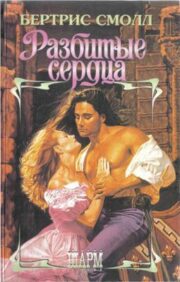
"Разбитые сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Разбитые сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Разбитые сердца" друзьям в соцсетях.